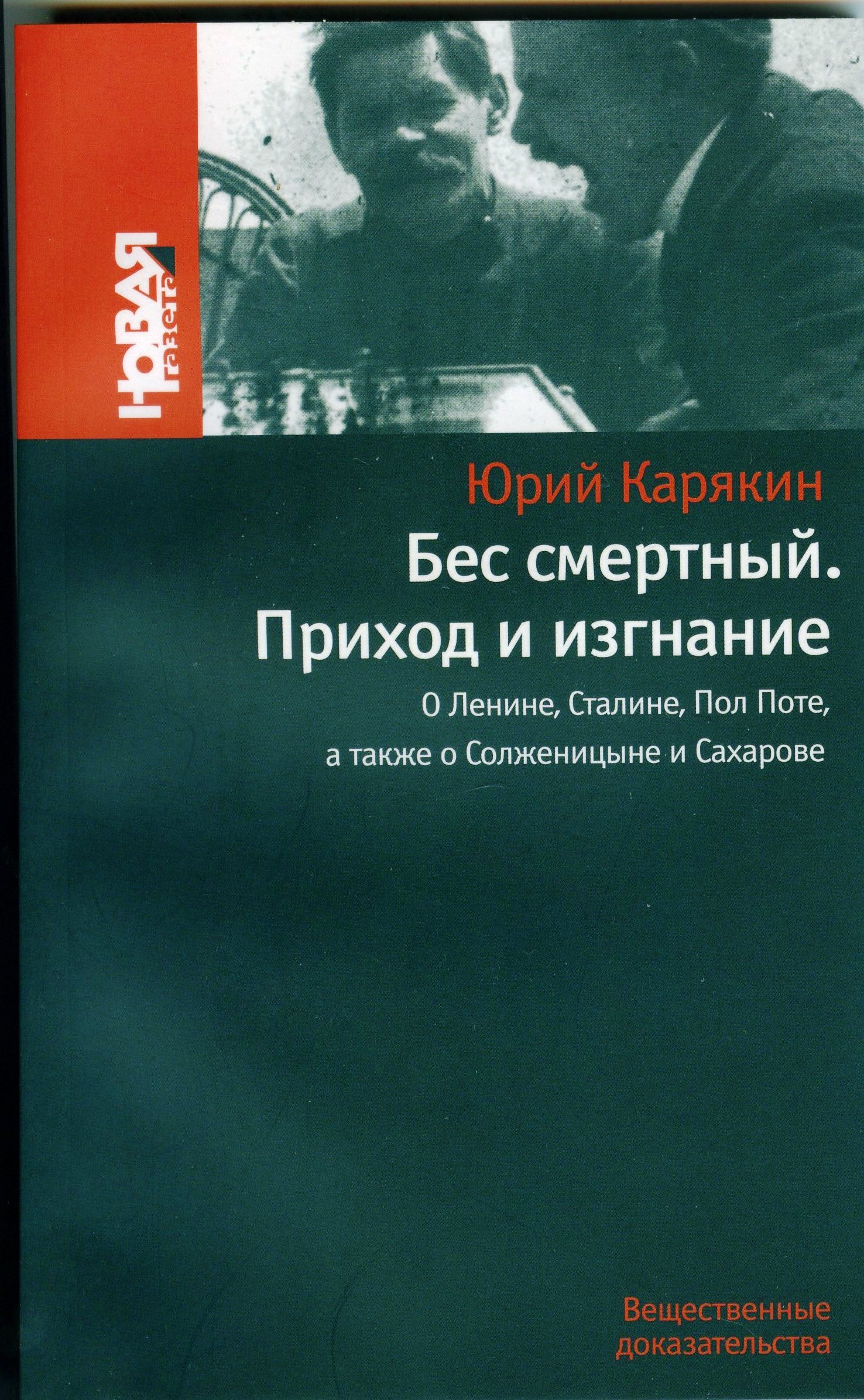
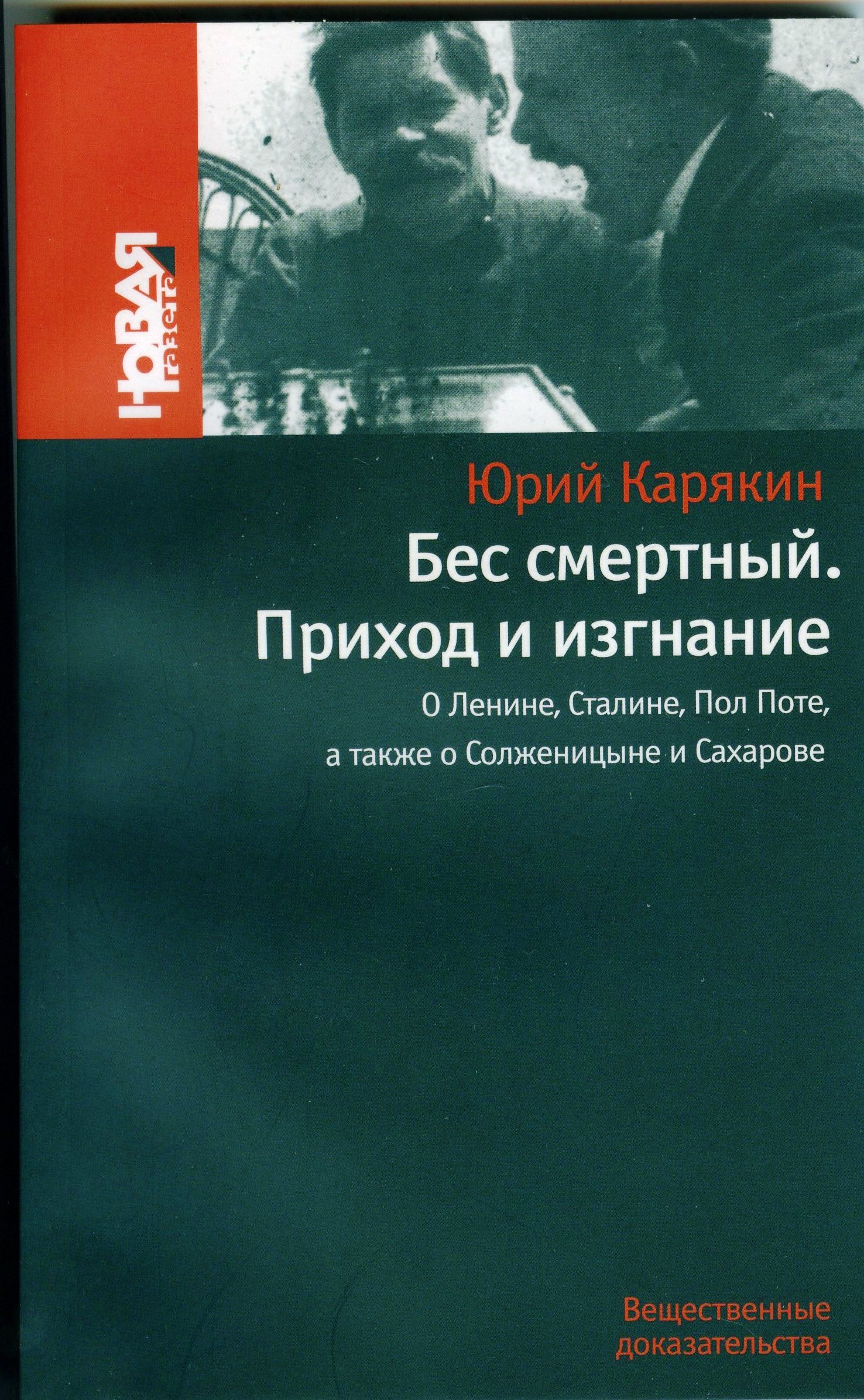
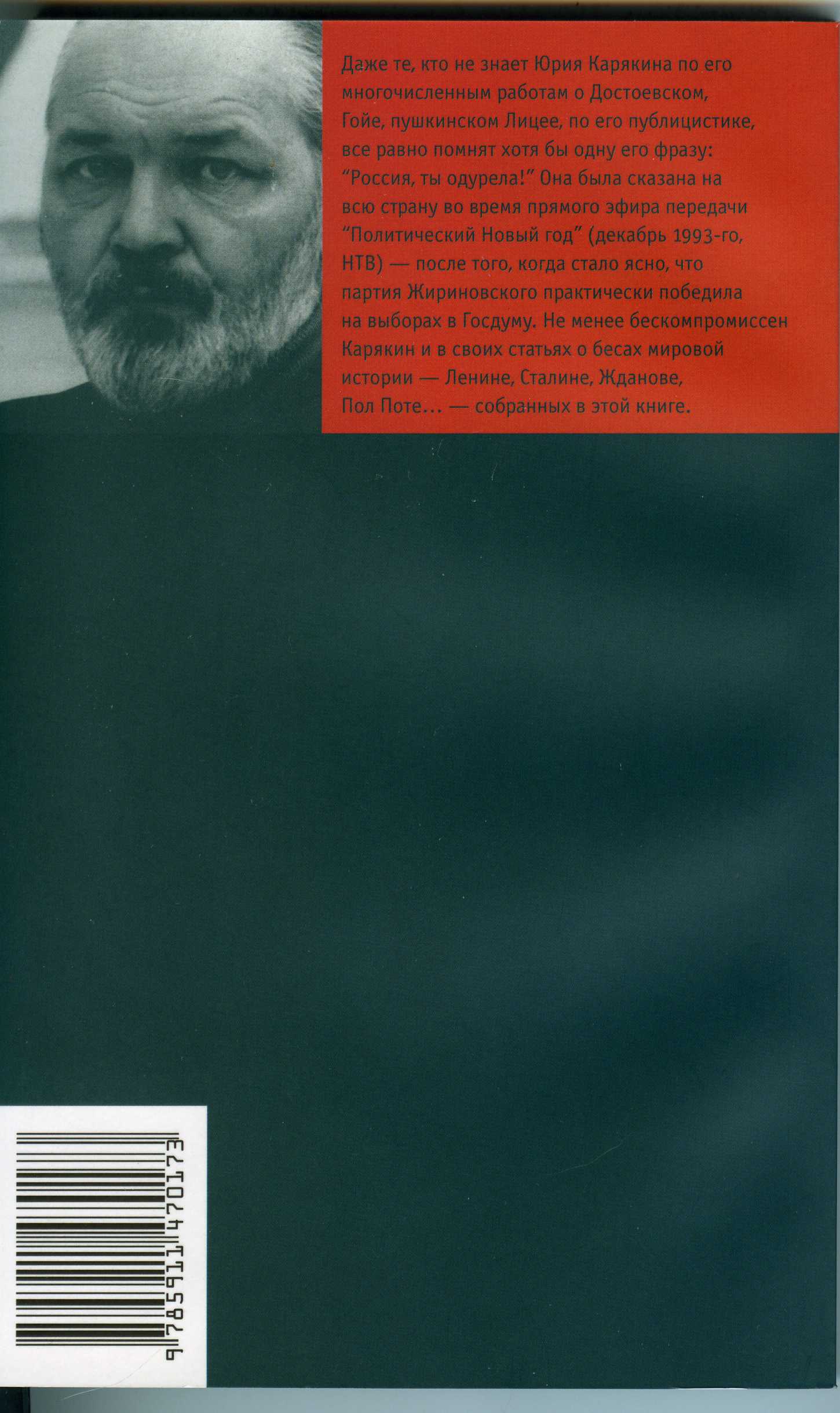
ЮРИЙ КАРЯКИН
Бес смертный.
Приход и изгнание
О Ленине, Сталине, Пол Поте,
а также о Солженицыне и Сахарове
НОВАЯ ГАЗЕТА
2011
Составление и общая редакция
Олег Хлебников
Художественное оформление
Андрей Бондаренко
Редакция «Новой газеты» выражает особую благодарность
Александру Евгеньевичу Лебедеву
За поддержку в издании
Книжной серии «Вещественные доказательства»
Карякин Ю.
К 27
Бес смертный. Приход и изгнание: о Ленине, Сталине, Пол Поте, а также о Солженицыне и Сахарове / Ю.Карякин. – М.: Новая газета, 2011 – 240 с. (вещественные доказательства)
ISBN 978- 5 – 91147- 017-3
ISSN 2223- 3253
Юрий Федорович Карякин (1930 г.р.) – литературовед, философ, искусствовед, публицист, общественный деятель. В своей книге «Перемена убеждений» он честно показывает путь, который прошел – от убежденного марксиста, до … автора собранных под этой обложкой статей о бесах российской и мировой истории.
Среди этих бесов и Ленин, и Сталин, и Жданов, и Пол Пот… Их приход состоялся в ХХ веке. Но еще в XIX веке их провидел и описал Достоевский, творчеством которого Карякин занимается всю жизнь. А потом пришли те, кто начали изгонять бесов. Это прежде всего Александр Солженицын и Андрей Сахаров. По словам Карякина, ему посчастливилось дружить с обоими. И он написал в этой книге и о своей дружбе с ними, и о понимании их роли в нашей истории.
Охраняется Законом РФ об авторском праве
СОДЕРЖАНИЕ
Ирина Зорина «Будущая Россия честных людей »
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОБЛАЗН
ИЗ «ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ХРОНИКИ» КАМПУЧИИ
КАК МНЕ ОТКРЫВАЛСЯ ГУЛАГ
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ. ЧЬИ МЫ ДЕТИ?
ПОХОД, ЗАДУМАННЫЙ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ…
АНДРЕЙ САХАРОВ. РОССИЯ НЕ ВЗЛЕТИТ НА ОДНОМ КРЫЛЕ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
ПУШКИН НА ВТОРОЙ РЕЧКЕ
МЫ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛИ ТОЛЬКО ВНЕШНИХ ВРАГОВ
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Об авторе
«Будущая Россия честных людей...»
Несколько слов от составителя
Осенью 1998 года мы с Юрой поехали в Италию, на север, в старинный и сказочно красивый городок Мантуя. Там Юрий Карякин и Людмила Улицкая получали литературные премия (Улицкая за повесть «Сонечка», Карякин – за публицистику, статьи о Солженицыне). С нами работала молодая переводчица, студентка из Болонского Университета, милая толстушка-хохотушка. Русский язык она знала плохо, но очень старалась и хотела как можно больше узнать о России. А Карякин в это время, увлеченный «колымскими » песнями Юлия Кима, все время на своем маленьком диктофончике ( с ним не расставался, вошло у него в привычку наговаривать, записывать свои мысли на диктофон) ставил одну и ту же пленку – «Московские кухни», песенную пьесу Кима.
Получили наши лауреаты свои премии, кто-то дал нам машину и вот колесим мы по прекрасным дорогам Северной Италии, пейзажи невиданной красоты, теплое солнце и … звучит:
Не собирай посылку, мама,
На почту больше не ходи:
Твой сын уходит наконец-то
В объятья вечной мерзлоты.
Теперь никто его не тронет,
Последний хлеб не украдет,
В тайгу прикладом не погонит.
Не плачь: теперь он отдохнет.
Не собирай посылку, мама,
Она сыночку не нужна.
Последний раз он в небо смотрит,
А там колымская луна.
И ничего ему не надо:
Ни слез, ни камня, ни креста,
А лишь бы люди все на свете
О нем забыли навсегда.
Ни камня, ни креста,
Ни дикого куста,
Ни знака, ни следа...
Душе понять непросто,
Что здесь не пустота,
Что здесь не тишина,
А немота огромного погоста.
Вечная память.
Память во веки веков...
Наша милая толстушка-хохотушка слушала, слушала, как-то напрягалась, явно хотела понять слова песни, да вдруг как заревет: «Так не можно! Как же так? Это же люди, сыночек…».
Так молодая итальянка, будущая русистка впервые узнала о ГУЛАГе.
Мне вспомнилась эта невеселая история сейчас, когда собираю я по просьбе друзей из «Новой газеты», статьи Юрия Карякина, его дневниковые записи, так или иначе связанные с этой мрачной страницей нашей истории – «Архипелаг ГУЛАГ».
Удивительно, а на самом деле только так и могло быть, но уже в своей первой «перестроечной статье» - «Стоит ли наступать на грабли» (1987 года) обращается он к молодым, « к тем юным людям, которые станут судить обо всем нашем поколении», к «будущей России честных людей»: «Дорогие наши, вот жестокая, страшная правда, которую Вам надо знать и которую от Вас слишком долго скрывали. Но не впадайте ни в цинизм (слишком банально), ни в отчаяние (слишком уж дорого), ни в озлобление (слишком уж бесплодно). Не стоит. Нельзя, нельзя. Надо выстоять и запастись силами, силами красивыми, добрыми, умными. Прочитайте, перечитайте слова совсем еще молодого Достоевского, написанные в день его смертной казни и в день ее отмены:
“Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты...
Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!.. <…>
Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья...”
Вспомним еще и никогда уже не забудем и о другом: о тех смертных казнях, которые отменены не были. Вспомним и потрудимся над созданием того, о чем мечтали все лучшие люди народа нашего, над созданием «будущей России честных людей» (Достоевский). А ближайшая будущая Россия — это ее сегодняшние юноши и подростки. Какими они сделаются (сделают себя), какими создадутся (создадут себя) — такой сделается, создастся и Россия. С чем придем мы к своему последнему часу? И чтó скажут нам вслед?».
И еще: « нельзя юноше, обдумывающему житье, нельзя вступать в жизнь, не прочитав «Бесов» и «Архипелаг ГУЛаг». Нельзя-то нельзя, а вступают, многие даже не подозревая о самом существовании этих книг. Не до этого …
Вот в чем трагедия».
Ирина Зорина
Бес смертный.
Приход и изгнание
Коммунистический соблазн.
(из дневника)
Расскажу об итоге, о результате и о пути своего разрыва с марксизмом - ленинизмом, с упором на социопсихологию.
Странно: до 47-48 годов я не ощущал давления ленинско-сталинской атмосферы в нашей стране (оно было мощнейшее, но я его не ощущал, как каждый из нас не ощущает давления атмосферного).
Но где-то в начале 48-го - вдруг, разом - ощутил. Радостно. Восторженно. Нам, двум главным отличникам школы – Леониду Пажитнову и мне - а я был секретарем комсомола школы - поручили сделать доклады о "Манифесте коммунистической партии" ( в мае или июне было 100-летие, великий юбилей). До этого насколько я помню никаким марксизмом-ленинизмом, по крайней мере, увлеченно я не занимался.
Много читал мировой классики в богатейшей библиотеке наших соседей по дому – Каринских, адвокатская семья. Помню благоговение. Эти фолианты, книги старинные, надежные. Данте, иллюстрации Доре, Шекспир пуда в два. Гете. Это было счастье... Кнут Гамсун в издательстве братьев Жемчужниковых... Юлий Айхенвальд. Тома - "Силуэты русских писателей".
И вот эта ночь весенняя 48 года. Читаю «Коммунистический манифест» Маркса. В сумбуре, царящем в моей голове вдруг, мгновенно образовался порядок. Все стало ясно как солнце. Как в "Войне и мире": die erste colonne marschir, die zweite colonne marschirt, die dritte ... Оказалось: также с формациями. Оказалось: вся история человечества - не что иное, как история борьбы классов, в результате которой наконец, один-единственный класс, пролетариат, должен победить... И если одним единственным словом выразить нашу программу (мировоззрение), то это слово будет - уничтожение частной собственности через диктатуру пролетариата.
Эта кристаллизация в юношеском мозгу коммунистической доктрины с удивительной точностью совпадала с механизмом бредообразования, когда из разрозненных фактов, многих необъяснимых вопросов и фактов создается цельная структура, разом все объясняющая.
Сделал вдохновенный, на самом деле восторженный доклад, и с этого мгновения попался в мышеловку, может быть лет на 10-20.
Марксизм - "единственно научное" учение ... Потом в Университете на философском факультете слушал лекции Д,Д.Иваненко. Это был один из открывателей теории атомного ядра, если память не изменяет в 1931 году чудом не получивший Нобелевскую премию. Лауреат Сталинских премий, он приходил к нам на лекции с двумя охранниками, и мы ощущали сладкий трепет приобщения. Много-много лет спустя я узнал, что он предал не только Ландау, но и Бронштейна, мужа Лидии Корнеевны Чуковской ( она сама мне об этом рассказывала). Тут я - не судья. Но лекции по истории физики Д.Д.Иваненко читал фантастически блестяще. Он "ходил" суживающимися и расширяющимися кругами вокруг каждой темы, но всегда приходил в одну искомую точку.
Для меня это была, - раз я это до сих пор помню, 50 лет спустя, - не история физики, а история мысли как таковой... И тогда у меня впервые шевельнулась мысль, дерзкая и тут же струсившаяся, - ну как же так? Фзическая, механическая, биологическая природа - бесконечно груба. И никому же не придет в голову назвать физику - ньютонизмом или - эйнштенизмом..., химию - менделеевизмом и т.д. А науку о самом сложнейшем из сложнейшем, единственном из сложнейших "предметов" - о человеке и обществе назвать марксизмом-ленинзмом... Абсурд! Ну не может один человек постигнуть ВСЁ. Исходный, если угодно банальный момент… физика= ньютонизм, химия= менделеевизм, а все обо всем == марксизм-ленинизм!
Кажется тогда, а может быть и позже узнал, что Маркс главный свой труд "Капитал"_ хотел посвятить сначала Дарвину, потом Спенсеру(!). Последний - на всю жизнь я это запомнил – так высказался об этом труде и о социализме: "Из свинцовых предрассудков нельзя сделать золотых характеров". А Дарвин вежливо отказался от посвящения, дескать, - не мой предмет. И Марксу ничего не оставалось, как посвятить свой труд какому-то Вульфу. Вот полный абсурд. Хотел посвятить гениям, посвятил бездарности - в знак протеста. Так и стал он сам - знаменем черни.
Марксизм - "единственно научное"... Ну не может один человек быть в курсе всех наук.
1917... Октябрь. Ленин... Кто сегодня помнит американского социального психолога Якоба (Джекоба) Морено, который именно в этом 1917 году опубликовал "Социометрию" (теорию "малых групп"). Он первый ввел это понятие. А в это время, конечно, крупнейший практический социолог и психолог эпохи В.И.Ульянов не опубликовал, а реализовал свою социометрию: как "малые группы" могут править всеми...
Социологи, психологи ищут слова, понятия, категорию, обозначив которую, они смогут помочь нам познать самих себя.
А вот и наше изобретение - ПОЛИТБЮРО!..
ЖИЗНЬ - самый лучший социолог, самый лучший психолог. Жизнь подбросила нам нашу "малую группу". Чтобы пробиться в ПБ через миллионное сито, чтобы преодолеть столь жестокий дарвиновско-мичуринский- лысенковский естественно-искусственный отбор надо было обладать абсолютно определенными качествами... Они - просеялись, отселекционировались, выжили (заметить Молотов под 90, Каганович - под 100). По слову Бога... "По образу и подобию его"... По слову Дьявола, по образу и подобию его все коммунистическое обществе так и строилось.
Возьмите пирамиду. Я, маленький романтический дурачок представлял, что в обществе нашем встраивается пирамида и на вершине ее оказываются лучшие люди, которые есть «ум, честь и совесть нашей эпохи», которые «ни слова не скажут против совести, не возьмут ни слова на веру». И казалось мне тогда, что чем выше эта пирамида, тем умнее, совестливее и красивее. Когда я туда немного попал, я вдруг понял: пирамиду нужно перевернуть. Не пирамида, а воронка, и то, что мне казалось вершиной, оказалось подончеством. ....
Наше общество (коммунистическое) все было построено сверху вниз, абсолютно противоестественно.
Существует какой-то закон - СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И НРАВСТВЕННОГО коммунистических вождей.
Уже Маркс и Энгельс, будучи от природы несомненно чрезвычайно одаренными, не были на уровне высших научных и художественных достижений своего времени. Что уж говорить о Ленине и Сталине!
Марксизм – ленинизм есть социально-духовный расизм.
Ср. из "Тимона Афинского" (одна из любимых цитат Маркса): я кривобок, горбун, но у меня деньги и лучшие красавицы и лучшие колесницы к моим услугам... Я недалек умом, я глуп, но у меня деньги и лучшие умы будут на меня работать...
Точно также - с властью, с реальной политической социальной властью (нехорошо над физическими недостатками смеяться, но что-то есть знаменательное в том, что Трапезников, буквальный горбун, правил всей наукой общественной...) Но и это еще не самое главное. Суть расизма чистого и социального состоит в том, что он разом превращает высокое в низкое, а низкое в высокое, разом позволяет всякой серятине, всякому ничтожеству попасть в арийцы. Пусть все эти Платоны, Гегели, Данте и пр. гении -перегении, зато я - на самой высокой вершине, откуда они видятся ничтожными кочками.
Со студенческой скамьи в наши головы въелось, вгрызлось, запало (как клещ! - не выковырнуть) убеждение: марксизм одолел ограниченность «социалистических утопий» и превратил социализм, коммунизм из утопии в науку. У Ф. Энгельса есть даже специальная работа об этом. Но оказалось: в марксизме точного самосознания не больше, чем в утопиях прежних. В сущности, даже меньше.
Социализм и коммунизм не могут не быть неутопическими. Иначе говоря: не может быть неутопического социализма и коммунизма. Социализм и коммунизм - по определению, по происхождению своему, по генезису, по корням, - УТОПИЧНЫ. А утопия - самый прожорливый зверь на свете. Мало того: несбыточный, "ненатуральный", противоестественный. Он еще и самоубийственен. В крови этого прожорливого зверя - рак (лейкемия). Утопия не только убийственна, но и самоубийственна.
В «Коммунистическом манифесте» сказано: «…коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности». Но в этом и состоит главная утопия. Это же все равно, что взять магнит и попытаться отрубить его отрицательный полюс. Задача неразрешимая по своей природе. Сколько не отрубай, никогда не отрубишь. В «лучшем» случае можно лишь уничтожить, разбить сам магнит. Надо же, наконец, понять, что частная собственность, как и общественная, даны человечеству если не навсегда, то, по крайней мере, на необозримо долгое время. Это – процесс исторический. Могут и должны меняться лишь их формы, их соотношение, их «пропорции».
Закончился, заканчивается грандиозный всемирный социальный эксперимент с коммунизмом, огромный исторический цикл. И вот его главный итог:
ПРИ ТАКОЙ-ТО ЦЕНЕ ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?!
То есть мы можем рассматривать весь путь в свете конечного результата. Вещь действительно уникальная.
Вдумаемся в тему: фактор времени в теории и практике социалистической революции.
Есть известное высказывание Ленина о том, что Маркс и Энгельс действительно часто ошибались в определении сроков революции. И, дескать, напрасно издевались над этим всякие там филистеры, ибо эта ошибка благороднейшая: за ней — святое нетерпение видеть мир обновленным и осчастливленным. ..
Я бы добавил к этому: не просто часто, а очень часто, слишком часто, почти беспрерывно классики ошибались именно в сроках. Здесь какая-то дурная бесконечность, какая-то фатальность. Можно (и должно) составить настоящую антологию по этой теме. Уверен: она произведет ошеломляющее впечатление.
Даже в начале 50-х годов прошлого века Маркс (уже «зрелый Маркс»), заметив падение денежного курса на Лондонской бирже, открывает в этом падении математическое доказательство близости революции. Это лишь один факт из десятков. Но все они предопределены классической установкой, четче, резче всего сформулированной в «Капитале» (последняя страница первого тома): превращение капиталистической собственности в общественную есть далеко не столь длительный, тяжелый и мучительный процесс, как превращение раздробленной частной собственности в капиталистическую. Там экспроприировалась масса народа немногими узурпаторами. Здесь все наоборот: огромная масса экспроприирует совсем немногих узурпаторов. А потому этот процесс будет несравненно короче, легче и безболезненнее...
Перед нами грубо механическое решение сложнейшей социальной, духовной, психологической задачи. Примитивно арифметический подход к наивысшей математике.
Несравненно короче, легче и безболезненнее... Сравните! Сравните именно в свете известного сегодня результата.
А метания Ленина? В январе 1917-го юным швейцарцам он говорит, что мы, старики, не доживем до начала революции, а через десять месяцев берет власть. Кажется, на этот раз сама история обогнала вождя. Да ведь только кажется. Не успели взять власть и тут же ждут со дня на день, с часа на час победы мировой революции. Ленин объявляет 1 мая 1919 года: «Большинство присутствующих, не переступивших 30–35-летнего возраста, увидят расцвет коммунизма...» Где сегодня все эти 30–35-летние?.. Сколько им сегодня должно было бы быть? Лет по 105–110...
НЭП – новая экономическая политика, объявленная вождем в 1919 году в гибнущей от голода России. О, сколько тут было и осталось иллюзий! Вот слова Ленина (декабрь 19-го) о «свободе торговли хлебом»: «Против этого мы будем бороться до последней капли крови. Здесь не может быть никаких уступок» («Никаких уступок» и – на тебе! А еще раньше – за скорейший созыв Учредительного собрания. А через месяц – разогнали его и расстреляли демонстрацию в его защиту. НЭП даже в партии пробивал себе дорогу вопреки, а не благодаря Ленину. Многие даже кончали самоубийством, поверив – против этого мы будем бороться до последней капли крови. НЭП ведь состоялся лишь после и в результате Кронштадта, лишь после и в результате крестьянских восстаний. Никакое это не гениальное открытие. Просто в самый последний момент успели выскочить из капкана, который сами себе и поставили. Но выскочили-то единственно для того, чтобы сохранить свою власть. Это был НЭП— при усилении однопартийности, вплоть до запрета каких бы то ни было фракций внутри партии (X съезд), вплоть до того указания Ленина, что «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». Сообразили хоть в устав и программу не вносить этот пункт, но действовали всегда в соответствии с ним. Он и был эпиграфом XIV съезда, который сетовал: «Мы страдаем не от так называемого «доносительства», а именно от недоносительства». Это был НЭП— при ужесточении цензуры (Свобода печати?— говорил Ленин.— Мы самоубийством кончать не собираемся). Это был НЭП— при безграничном расширении статьи, карающей за «антисоветскую деятельность» (тут же и начались фальсифицированные процессы против своих политических оппонентов). НЭП— при беспощадном физическом уничтожении церковнослужителей и вообще верующих. НЭП— при организации чекистской облавы (по прямому указанию Ленина) на либерально-демократическую интеллигенцию. НЭП, когда (уже после смерти Ленина, но по Ленину) весь XIII съезд РКП(б) нагло смеялся, выслушав только цитату из письма ленинградских инженеров, требовавших каких-то «прав человека»... Зачитывал цитату и отвечал Г. Зиновьев: «Не видать вам этих прав как своих ушей». Зал опять хохотал и аплодировал. Очень интересно было бы узнать, как из такой веселой, насквозь чекистской нэповской России могла родиться Россия социалистическая?..
Родился «Великий перелом». В 1929–1932 годах было уничтожено не менее 10 миллионов человек. Глухой стон стоял в России, все раны кровоточили (как говорил поэт Н. Коржавин: «Ножами по живому телу они чертили свой чертеж»). Но вдруг было объявлено (всего через четыре года), что социализм уже построен и начинается переход к коммунизму (а хохотавшие на XIII съезде над «правами человека» и призывавшие к доносам на XIV съезде уже почти все перебили друг друга)...
В 1961-м нам был обещан полный коммунизм к 1980-му. А тут еще Мао вызвал нас на коммунистическое соревнование: «Десять лет упорного труда— десять тысяч лет счастливой жизни..» Составить бы список всех этих обещаний всех этих чаушесок, кимирсенов, кастро, полпотов... И все это случайность? «Святое нетерпение»?..
Есть много разных «оснований деления» для хронологии истории. Мне кажется, в нашей истории помогает разобраться и такое «основание деления»: два периода у нас было— первый, самообманный, романтический, так сказать, и второй— сознательно обманный, лживый, циничный (оговорюсь: оба периода— сообщающиеся сосуды: уже в первом было много от второго, а во втором не так уж мало и от первого). Первый— короче, второй— подлиннее. А эпиграф к обоим один и тот же: «Клячу истории загоним...» И— почти загнали...
На деле произошло не превращение социализма из утопии в науку. Произошла замена всех прежних утопий новой, трижды утопической. И если на деле все утопии— это лишь осуществление антиутопии, то наша и есть трижды антиутопия. Если все утопии на практике означают соревнование в составлении и реализации наиболее длинных проскрипционных списков, то наши списки длиннее всех предыдущих, вместе взятых.
Кто не знает слов Маркса о «родимых пятнах» капитализма? Эти слова— многолетнее, универсальное и, казалось, убедительное объяснение едва ли не всех наших «ошибок» и «недостатков» (на деле— преступлений). Но в этих словах невольная и страшная проговорка. Вдумаемся. От «родимых пятен» никто не умирал. Иногда они даже украшают. Проговорка в том и состоит, что Маркс (как и в приведенном выше случае с «Капиталом») чрезвычайно облегчил себе задачу объяснения и изменения мира, объявив, в сущности, всю историческую наследственность, генотип человечества «родимыми пятнами», поставив задачу стереть именно эту наследственность как простые «родимые пятна».
Таким образом, «единственно научное учение» абсолютно не приняло в расчет все завоевания религии, культуры, науки, мировой литературы, которые, может быть, яснее и короче других отчеканил «лжеученый» и «реакционер» Спенсер: как могут рождаться золотые характеры из свинцовых предрассудков?
Насилие над жизнью не может не проявляться насилием над временем, не может не выявиться сначала романтическим самообманом, а потом и циничным обманом насчет сроков наступления земного рая.
Сама неосуществимость коммунизма и предполагает, предопределяет насилие, самообман и обман.
Бес
смертный
Главный заказчик и его мысли о кастетах, кипятке и кислоте, а также о Боге, Гегеле, Достоевском, а еще об уме, чести и совести партии
«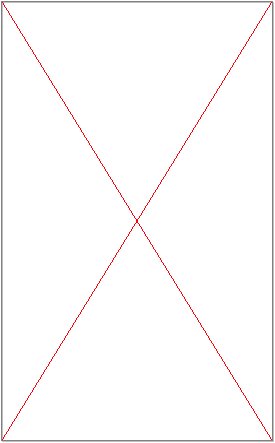 Всякий
боженька есть труположество…»
Всякий
боженька есть труположество…»
В. И.
Ленин
«Бога
жалко! Сволочь идеалистическая!» (о
Гегеле)
В. И.
Ленин
«Морализирующая
блевотина» (о Достоевском)
В.И. Ленин
«Титан
революции» (о Нечаеве)
В.И. Ленин
«Каждый
хороший коммунист есть в то же время
агент ЧК»
В. И. Ленин
«Свобода
слова? — Мы самоубийством кончать не
собираемся»
В. И. Ленин
«Я
считаю, что на всех, кто хочет колебать
марксизм, надо лепить бубновый туз, даже
не разбираясь <…>. Ничто в марксизме
не подлежит ревизии. На ревизию один
ответ — в морду»
В.И.
Ленин
Вот
вам точный автопортрет нашего персонажа.
Добавьте еще его же слова: «Партия —
ум, честь и совесть нашей эпохи». Истинный
смысл этих слов и раскрывается в
эпиграфах.
Сколько
заказных убийств происходит сейчас в
стране? Сколько поймано исполнителей?
Сколько разоблачено заказчиков?..
А
сколько миллионов ни в чем не повинных
людей было истреблено во время гражданской
войны? Скольких доносчиков и палачей в
те времена не только не ловили, а
награждали? Скольких — специально
выискивали и обучали этому ремеслу! И
как прославляли главных
заказчиков!
Сегодня
воздадим должное самому главному
заказчику тех преступлений, которые
творились у нас почти весь прошлый век:
запретить, уничтожить, искоренить
религию, Церковь, верующих, вообще всех
инакомыслящих.
Это
слово — «заказчик» — конечно, не из
политической терминологии, а из языка
уголовного. Ну, так основным предметом
здесь и является превращение уголовщины
в политику, и наоборот.
От
Хрущева до Горбачева. Открылись глаза
на Сталина и еще более ослепли на Ленина
После
56-го года (XX съезд) у большинства моих
сверстников открылись глаза на Сталина,
но, как ни странно, еще больше ослепли
на Ленина. От Хрущева до Горбачева (19
лет) продолжался период, который в целом
был назван «возвращением
к ленинским нормам».
Шекспиром
ленинианы того времени был М. Шатров. Я
не имею права писать дальнейшее, если
не признаюсь в том, что сам чувствую
себя невольным соучастником прежних
злодеяний, потому что со многим
соглашался.
Спасались красивыми
цитатами из Ленина. И многие свято верили
(да и сегодня верят) в его слова: «Партия
— ум, честь и совесть нашей эпохи».
Вдохновенно повторяли вслед за ним: «Ни
слова на веру, ни слова против совести».
А заговорил он так к концу жизни, потому
что «все дозволено», «право на бесчестье»
(Достоевский) — это относилось раньше
только к «классовому врагу». Но вдруг
выяснилось, что это заразило и партию.
Он сам всех своих и заразил, а потом
спохватился. Да поздно уже было. Те слова
мы повторяли, другим же его словам не
придавали значения: «Тех, кто верит
политикам на слово, надо объявить
дурачками», а поэтому и сами оказались
дурачками.
Да,
освобождение от ленинского мифа шло
трудно. Почему?
Прежде
всего тогда не хватало фактов, а еще
больше их понимания: ведь дрессировали-то
нас идеологически с самого детства,
развивая нюх на «классовый инстинкт».
Гвозди, шурупы идейные вбивали, ввинчивали
в наши головы. Каждый день. По
шляпку.
«Сверхнаглость»
как политическое кредо
Есть
сотни, тысячи фактов, которые заставляли
людей нашего поколения «прозревать» в
отношении Ленина. Вот лишь
некоторые.
Убийство
царской семьи, июль 18-го. Мало того, что
Ленин, Свердлов и др. все это организовали,
заметая свои следы и свалив все на
«инициативу снизу». Мало того, что нагло
врали, официально объявив лишь о расстреле
царя (а царица и дочери, мол, отправлены
в безопасное место). Но вот еще один
штрих. А. И. Иоффе, наш дипломат, был в
это время в Берлине. Ему, естественно,
задавали вопросы о судьбе царицы и
детей. Совет Ленина: «Пусть Иоффе ничего
не знает, ему там, в Берлине, легче
врать будет (курсив
мой. —
Ю.К.)».
В
этом преступлении, как и во множестве
других, Ленин был главным
заказчиком.
Главные заказчики, как
правило, сами не убивают.
Они обычно «лишь» духовно развращают,
«лишь» заражают своими идеями-«трихинами»
(Достоевский) «малых сих», подготавливая
из них будущих доносчиков и убийц,
главным образом — из молодых. А те
(«передовое мясо», по выражению Ивана
Карамазова), как правило, не являются
идеологами. Постепенно выработалось
своеобразное, доказанное всей историей,
и в особенности нашей российской историей
прошедшего века, «разделение
труда». Одни работают
пером, другие — топором, но то, что
написано пером одних,
доделывается топором
других. В таком
«разделении труда» скрыты двоякий
соблазн и двоякая опасность: они делают
одно и то же дело, но вдохновитель
облегчает себе свой «труд» именно тем,
что он не исполнитель, а исполнитель —
тем, что он не вдохновитель. Один сохраняет
«чистыми» свои руки, другой — совесть.
Безответственность и энтузиазм вождей
и толпы (вернее, безответственный
энтузиазм) увеличиваются
в геометрической прогрессии. И этот
молчаливый сговор приводит к неминуемой
катастрофе. Все «чисты», а в итоге —
всеобщая грязь и кровь.
Ленин
оказался гениальным «переводчиком», и
сам даже похвалялся этим: «Мы перевели
латинское выражение — «Экспроприаторов
экспроприируют…» — на простой, всем
понятный язык: «Грабь награбленное!».
Бросить такой лозунг в России в темную,
забитую массу, возвести прямой грабеж
в ранг высшей революционной
добродетели...
Непереименованное
преступление, как правило, для нормального
человека непереносимо, а переименованное
— даже вдохновляет и называется уже
подвигом. И как таковым им гордятся, за
таковой награждают.
Одна
из самых омерзительных картин в этом
смысле — расстрел в Крыму добровольно
сдавшихся в плен и — официально
помилованных! — тысяч белых офицеров.
(Дескать, блестящая «военная
хитрость».)
Письмо
Ленина — Чичерину, 25 февраля 22-го
(инструкция для переговоров с Западом):
«Действительное впечатление можно
произвести только сверхнаглостью».
1920
год: Ленин рекомендует
воспользоваться проникновением банд
«зеленых» на нашей западной границе:
«Под видом «зеленых» (мы потом на них и
свалим) пройдем на 10—20 верст и перевешаем
кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000
р. за повешенного».
Ленин
— Молотову, 19 марта 22-го («совершенно
секретно»). Приказ подавить сопротивление
духовенства «с такой жестокостью, чтобы
они не забыли этого в течение нескольких
десятилетий».
Высылка
за границу по приказу Ленина лучших
философов, ученых, писателей (настоящий
духовно-интеллектуальный цвет России)
— на так называемых «философских
пароходах». Спасибо еще, не догадались
потопить в открытом море, опять свалив
на каких-нибудь «зеленых». Вот и было
бы «окончательное решение» «основного
вопроса философии».
Одним
из самых любимых героев Ленина был
знаменитый С.Г. Нечаев, прототип Петра
Верховенского в романе Ф. М. Достоевского
«Бесы». Из воспоминаний Бонч-Бруевича:
«В.И. нередко заявлял о том, что какой
ловкий трюк проделали реакционеры с
Нечаевым с легкой руки Достоевского.
«Совершенно забывают, — говорил В.И., —
что Нечаев обладал особым талантом
организатора, умением всюду устанавливать
особые навыки конспиративной работы.
Умел свои мысли облачать в такие
потрясающие формулировки, которые
оставались памятны на всю жизнь.
Достаточно вспомнить его ответ в одной
листовке, когда на вопрос: «Кого же надо
уничтожить из царствующего дома?» —
Нечаев дает точный ответ: «Всю большую
ектенью». Ведь это сформулировано так
просто и ясно, что понятно для каждого
человека, жившего в то время в России,
когда православие господствовало, когда
огромное большинство, так или иначе, по
тем или иным причинам бывали в церкви
и знали все, что на великой, на большой
ектенье вспоминается весь царствующий
дом, все члены дома Романовых. «Кого же
уничтожить из них?» — спросит себя самый
простой читатель. «Да весь дом Романовых!»
— должен он был дать себе ответ. Ведь
это просто до гениальности!
(Курсив мой. — Ю.К.)
Ленин называл его «титаном революции»,
одним из самых пламенных
революционеров…»
А
вот что говорил Ленин о Достоевском:
«На эту дрянь у меня нет свободного
времени». «Морализирующая блевотина»,
«Покаянное кликушество» (о «Преступлении
и наказании»). «Пахучие произведения»
(о «Братьях Карамазовых» и «Бесах»).
«Явно реакционная гадость, подобная
«Панургову стаду» Крестовского <…>
Перечитал книгу и швырнул в сторону»
(о «Бесах»).
«Братьев
Карамазовых» начал было читать и бросил:
от сцен в монастыре стошнило».
Бешенство,
бешенство, бешенство… А на самом деле
эта бешеная ненависть не что иное, как
морально-идейная трусость. Разбивает
зеркала, узнав себя.
Не
устану напоминать: «Всякий боженька
есть труположество». Какова художественная
образность. Какова эстетика. Каково
сверхпатологическое грязное
воображение.
А
вот еще ленинский приказ 1921 года: «Из
числа пускаемых в свободную продажу в
Москве изъять порнографию и книги
духовного содержания, отдав их в Главбум
на бумагу». Насколько у него маниакально
застряло омерзительное сравнение
религии и порнографии…
А
вот вам еще задушевные мысли, заметки
Ленина — для себя — на полях Гегеля:
«Материалист возвышает знание материи,
природы, отсылая бога и защищающую его
философскую сволочь в помойную яму. <…>
Пошло— поповская идеалистическая
болтовня о величии христианства (с
цитатами из Евангелия!!). Мерзко, вонюче!
<…> Бога жалко!! сволочь
идеалистическая!!».
Заметки
для себя? Как бы не так! Это — программа,
надолго задуманная. Заметки на карте
будущих сражений. Настоящее руководство
к действию. Из таких задушевных заметок
для себя и родились впоследствии
«совершенно секретные» приказы о
физических расправах, тоже очень
задушевные и тоже для себя, для своих;
и чем более задушевные, чем более для
себя, для своих,
тем более «совершенно секретные». Эти
бешеные внутренние взрывы Ленина на
полях Гегеля, в письме к Горькому (о
труположестве) неизбежно аукнутся 5
декабря 1931-го взрывом храма Христа
Спасителя, взрывами десятков тысяч
других храмов, тюрьмой, расстрелом сотен
тысяч людей.
А
победи мировая революция, взорвали бы
и собор Святого Петра в Риме? Собор в
Милане? Парижский Нотр-Дам? Кельнский
собор? И церковь на Нерли? Все соборы,
во всех странах?..
Призывает
«овладеть всей культурой» без малейшего
сомнения в том, что религия сама есть
форма культуры, а культура религиозна
по своему происхождению.
А
что большевистские вожди говорили друг
о друге? Ленин о Троцком: «иудушка».
Троцкий о Ленине: «профессиональный
эксплуататор неразвитости рабочего
движения». И ведь оба правы. Но как только
дело дошло до власти, стали вдруг братьями
родными. Троцкий: «Без Ленина Октябрь
не победил бы». Ленин: «Товарищ Троцкий
— лучший большевик».
Еще
одна чеканная формула Ленина: «хороший
коммунист в то же время есть и хороший
чекист». Что это, как не тайный призыв
к всеобщему доносительству. Позже А.
Микоян «разовьет» Ленина, прямо заменив
слово «коммунист» на «каждого советского
человека». «Единственно научное»
определение диктатуры пролетариата,
по Ленину, предполагает, требует,
приказывает отрицание всей и всякой
законности, прямое насилие. И вот его
«конкретный перевод» этого «научного
определения»: призыв «избивать гражданское
и военное начальство, вооружаться, кто
чем может (ружье, револьвер, бомба, нож,
кастет, палка, тряпка с керосином для
поджога, пироксилиновая шашка, колючая
проволока, гвозди), осыпать войско
камнями, кипятком, создавать склады
бомб или камней или кислот для обливания…».
(Чистый плагиат из Нечаева: «Яд, нож,
петля и т.п.! Революция все равно освящает
в этой борьбе. Итак, поле
открыто».)
Кастетом
в висок. Кипяток на голову. Кислота в
лицо… «Великий философ и стратег» пишет
это в анонимных листовках еще в октябре
1905 года. И это все не уголовщина? И «эксы»
— не уголовщина? Это, товарищи, все
необходимые целесообразные средства
для нашей самой великой цели… А через
18—20 лет приказывает бомбить восставших
против зверского насилия большевиков
крестьян, бомбить с самолетов, окуривать
химическими газами… Бешенство, бешенство,
бешенство…
Невольный
вопрос: а сам, сам бы
мог, вот так, кастетом
в висок, кипятком на голову, кислотой в
лицо? А сам бы мог
поехать в Екатеринбург, спуститься в
подвал Ипатьевского дома и перестрелять
заключенных, глядя им прямо в глаза,
начиная с царя и царицы и кончая дочерьми
и мальчиком, да еще и врачом? Мало того
— расстрелять. Сделать контрольные
выстрелы, да еще прощупать на всякий
случай убиенных штыками между ребер. А
потом, сорвав драгоценности и раздев
убитых догола, облив кислотой, бросить
в штольню и засыпать землей…
Нет,
пусть это делают те, кто считается «мясом
революции». А он лишь — высший мозг,
высшая честь, высшая совесть. А он —
«самый человечный человек». Вот оно,
это проклятое «разделение труда», о
котором говорилось выше.
Да,
неотразимых фактов — сотни. Но я хочу
сказать сейчас об одной вещи, которая
является здесь уникальной для познания,
уникальной методологически (и даже
методически): закончился, заканчивается
грандиозный всемирный социальный
эксперимент с коммунизмом, огромный
исторический цикл. И вот его главный
итог:
ПРИ
ТАКОЙ-ТО ЦЕНЕ — ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?!
Жуткий
триптих. Возмездие?
С конца мая 1921-го у Ленина резко
ухудшается здоровье. В 1922-м — удар за
ударом. Начинает гаснуть интеллект.
Приходится заново учиться читать,
писать, решать элементарные арифметические
задачи. 30 мая в течение 5 часов он не
может помножить 7 на 12… Но что задумывает
и что решает он во время все более редких
и коротких промежутков просветления
(кто поручится, что не в бреду или в
полубреду)? Именно, именно: все то же
самое — задание ЧК выслеживать,
отлавливать и высылать философов и
ученых. Это ведь все как раз 22-й
год.
6 марта
1923-го — новый сильнейший удар, и как
следствие — «сенсорная афазия»
(неспособность понимать обращенную к
нему речь). Но ведь этой «сенсорной
афазии» предшествовала другая, может,
и врожденная, тоже бешеная по-своему
(соратники называли это — «глухое ухо»
Ленина): неспособность, нежелание
понимать никаких своих оппонентов;
неспособность понимать (и слушать)
ничего, что идет против его
взглядов…
Дальше
— того хуже: полная потеря речи. Но вот,
с 20 июля, небольшое улучшение (однако
речь так уже больше и не вернулась). Ему
прочитывают заголовки газет. Он выбирает,
что ему читать вслух. Но что именно? К
примеру, по поводу того, что на Украине
у богатых мужиков отбирают излишки
хлеба. Владимир Ильич «выразил большое
неудовольствие, что это не было сделано
до сих пор» (про НЭП уже забыл.)… Перед
нами едва ли не последнее осмысленное
или полуосмысленное выражение своих
неискоренимых идей, уже без слов, а
только мимикой.
Можно
все объяснить болезнью, бредом. Но ведь
ясно прослеживается какая-то неумолимая
логика, логика самой этой болезни: каждое
просветление оборачивается новым
помрачением, новым ужесточением. Как
говорил Порфирий Петрович Раскольникову,
тому Раскольникову, чье покаяние было
особенно омерзительно Ленину: «…все
это так-с, да зачем же, батюшка, в болезни-то
да в бреду все такие именно грезы
мерещатся, а не прочие? Могли ведь быть
и прочие-с? Так ли?». Боюсь, что не так. 7
на 12 помножить не в силах. Не может ни
говорить, ни писать, ни читать, ни
понимать. Но распоряжаться судьбами
миллионов людей, судьбами страны, народа
может и всегда считает себя обязанным
распоряжаться, распоряжаться абсолютно
безоговорочно, все жесточе и
беспрекословнее.
Сравните
три изображения Ленина. Первое, 1895-й.
Первые руководители «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса». Фотография
необыкновенно выразительна психологически.
Фотографируются-то специально, то есть
позируют, перед походом, для истории (у
Достоевского такое названо — «сочинить
физиономию»). Собрались на подвиг. «Совет
в Филях» перед (для) всемирно-историческим
Бородином. Особенно выразителен Ульянов.
На нем печать абсолютной властности.
Остальные, по сравнению с ним, — хлюпики,
пигмеи. «Хозяин разговора», вождь — он,
это ясно. Он — воплощение той партии,
т.е. той части
(партия ведь — это часть), которая
претендует стать всем,
стать целым.
Он — в центре. Сидит. Молчит. Губы сжаты.
Рука властно облокотилась на стол. Глаза
смотрят прямо на тебя, в упор, но
одновременно устремлены в себя. Молодой
сгусток, невероятная концентрация
невероятной же воли, энергии,
целеустремленности. До предела сжатая
пружина. Что-то будет, если (когда) она
разожмется? Куда, в кого выстрелит? По
крайней мере, некоторых сидящих рядом
с ним она не пощадит. Не пощадит и десятки,
сотни тысяч семей по таким анкетным
данным, какие точь-в-точь были, например,
у Ильи Николаевича Ульянова, дворянина,
директора народных училищ, с орденами
Владимира и Анны на шее.
Второе.
1917–1921 годы. Из сотен фотографий можно
выбрать любую. Стоит. Призывает. На
броневике, на балконе дворца, на грузовике,
на деревянных, сколоченных наспех
трибунах, на «кафедрах» съездов партии,
Интернационала. Глаза сверкают. Рука
выброшена вперед, указывая — нет,
приказывая! — кого уничтожить, куда
идти. Вместо буржуазного котелка—
рабочая кепка («свой»!). Пружина разжалась,
выстрелила наконец. Внутренняя воля,
энергия, целеустремленность становятся
и внешними, заражают сотни тысяч и
миллионы. Посмотрел бы директор симбирских
народных училищ на плоды деяний сына
своего… Что из того, что сам Ленин детей
не имел? А все равно оказался детоубийцей.
И отцеубийцей, и матере-убийцей, и
братоубийцей, и сестроубийцей… других,
таких же, как в семье Ульяновых.
Т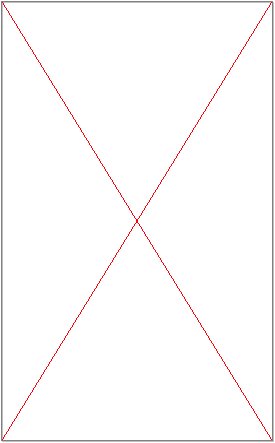 ретье,
1923-й. Горки. Коляска. Балахон. Лежит и
снова молчит, как и на первой фотографии.
Но как
молчит! Посмотрите. Сравните.
Вникните…
ретье,
1923-й. Горки. Коляска. Балахон. Лежит и
снова молчит, как и на первой фотографии.
Но как
молчит! Посмотрите. Сравните.
Вникните…
Воплощенное
идейно-политическое бешенство обернулось
безумием и олигофренией. А последнее
продиктованное «положительное»
предложение («прозрение»!), как вывести
партию из кризиса: резко увеличить
количество рабочих в центральных органах
партии? Этот испытанный политический
интриган, знающий, как превращать
меньшинство в большинство, как подбирать
делегатов на съезды, обучивший всему
этому своих соратников, дает им же такой
совет спасения. Это уже слабоумие
политическое. Сталин с радостью выполнил
и даже перевыполнил его совет: уж
постарался подобрать, «возвысив», для
себя, под себя новые кадры.
Мог
ли он, Ленин первый, через второго,
увидеть себя третьего?
Какой
Тициан и Леонардо, Гойя и Микеланджело,
какой Шекспир и Достоевский могли
вообразить, изобразить такое? Жуткий
триптих.
Жуткое
возмездие. Кто наказал? Бог? Судья? А
может быть, сам себя. Но, так или иначе,
это возмездие — главному
заказчику.
Справедливо
ли оно?
По-моему,
первое слово здесь должно было бы
принадлежать тем (если бы они прозрели
или воскресли) миллионам, которые сгорели
в развязанной им гражданской войне, да
еще тем миллионам, расстрелянным — по
его предначертаниям — революционными
тройками; тем миллионам, кто погиб в
тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. Сие уже
невозможно реально, но хотя бы вообразить
это — возможно. А если говорить реально,
мы сами и должны восстановить все эти
факты: раскрыть еще один сверхзасекреченный
Архипелаг ГУЛАГ — партархив
(сами от себя спрятались).
Я
хочу, чтобы люди, входящие в мавзолей
Ленина, знали эти слова — «всякий
боженька есть труположество». И чтобы
выходили из мавзолея, помня эти слова.
Поняли бы, наконец, что они сами совершают
духовно этот обряд перед автором этого
грязного слова.
P.S.
В 2000 году вышла книга Е. Данилова —
невероятная концентрация и фокусировка
фактов на эту тему (3500 фактов!). Я многим
обязан этой книге и хочу поблагодарить
ее автора.
Е.
Данилов — профессор, вице-президент
Международного содружества адвокатов,
председатель Московской коллегии
адвокатов.
В
июне сего года выйдет второе издание
его книги с моим предисловием, некоторые
положения которого я и
процитировал.
P.P.S.
Самое забавное, наверное, видеть недавно
вернувшегося в лоно церкви верного
ленинца, первого секретаря РКП в храме
Христа Спасителя со свечкой, а потом
еще его же и в мавзолее Ленина, сказавшего:
«Материалист возвышает знание материи,
природы, отсылая бога и защищающую его
философскую сволочь в помойную яму…
бога жалко, сволочь идеалистическая!».
Стало быть, товарищ Зюганов у нас теперь
и не материалист. Интересно только
знать: крестится ли он там, в мавзолее,
и перекрещивает ли там любимого вождя.
Мало того что в Бога поверил, еще и от
диктатуры пролетариата отказался, и
многопартийность признал, и частную
собственность. Если следовать Ленину,
надо «лепить ему бубновый туз, даже не
разбираясь»…
P.P.P.S.
Вот
то, что никак не может уйти из головы.
«Кипяток — тому солдату, кислоту — тому
казаку»… Не знают они, бедняги, что это
«историческая необходимость». И заказчик
главный не знает и знать не хочет ни
того казака, ни того солдата, ни того,
что с их семьями приключится. Будь у
меня талант, написал бы поэму: «Отдельный
казак и Ленин в Женеве».
«Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами...»
А. А. Жданов
Успеете наахаться,
И воя, и
кляня,
Я научу шарахаться
Вас, смелых,
от меня.
Анна Ахматова
В 1946 году, когда Жданов организовал погром Ахматовой и Зощенко, родилась у исстрадавшихся от него ленинградцев (или припомнилась им еще с 34–35-х годов?) невеселая шутка, грозившая шутникам, в случае доноса, немалым «сроком» (а могло быть и того хуже). Дело в том, что была в прошлом веке так называемая «ждановская жидкость», которой заглушали, забивали трупный запах (об этом есть и в предпоследней главе «Идиота»). Ну и, совершенно натурально, «жидкость», которой Жданов «кропил» культуру, люди, помнившие историю, не могли не прозвать «ждановской». Только она, в отличие от прежней, сама была смертельной, трупной, сама смердела, а выдавалась за идеологический нектар. К шутке той можно отнести опять ахматовское:
За такую скоморошину,
Откровенно
говоря,
Мне б свинцовую горошину
От
того секретаря.
Кощунство? Очернительство? Очернительство человека, о котором всего два года назад (статья писалась в 1988 году – И.З.) центральная газета писала: «Имя его хранится в памяти народной»?..
25 сентября 1936 года из Сочи в Москву, в Политбюро, пришла телеграмма-молния: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ ОПОЗДАЛ В ЭТОМ ДЕЛЕ НА 4 ГОДА. Об этом говорят все партработники и большинство представителей НКВД». И две подписи: Сталин, Жданов.
Эта сочинская телеграмма-молния — одна из самых кровавых депеш в истории нашей и общечеловеческой: сигнал к 37-му году. Если бы соавторы этой телеграммы сами писали родившиеся из нее бесчисленные арестантские повестки и приговоры, сами арестовывали людей, сами их допрашивали и пытали, забивали и расстреливали, сами закапывали и сжигали трупы, а потом еще, снова и снова, проделывали то же самое — с родственниками и детьми убитых (и с детьми этих детей), — сколько миллионов дней понадобилось бы им для всего этого? Им понадобилось бы — бессмертие. Бессмертие для уничтожения живых людей. Бессмертие для распространения смерти...
Тут что еще поражает? «Не на высоте...» Это — проговорка. Их представление о высоте измерялось потоками пролитой крови. Мало им было крови в 29–33-х годах. Мало и в 34–36-х. Уровень, график назначенной, нужной им высоты и вычерчивала тройка: Ягода, Ежов, Берия.
У Ягоды, расстрелянного за то, что он «оказался не на высоте», был маленький сын, Гарик. Затерявшийся в кровавой сутолоке, прежде чем окончательно и бесследно исчезнуть, он сумел послать своей бабушке несколько писем, начинавшихся одинаково: «Дорогая бабушка, я еще не умер...» И сколько таких слов, написанных и не написанных, отосланных и не отосланных, звучало в те годы по всей стране: страшный детский сиротский хор, организованный двумя дядями из Сочи. И каким стоном-воем откликнулся на него другой хор — материнский, — из тюрем, «столыпинских вагонов», лагерей.
А. А. Жданов — соавтор 37-го года (и 38-го, конечно). Вот главное дело его жизни, вот главный «вклад» его в нашу культуру. Тут уж он был на особой высоте. О результатах его тогдашних «художеств» в Ленинграде мы знали по «Реквиему» Ахматовой и прочитали в повести Л. К. Чуковской «Софья Петровна».
А вот еще одна страничка о таких же «художествах» Жданова в Уфе. Она — из письма ко мне М. Чванова, уфимского писателя, специально занявшегося этой темой:
«Поводом для его приезда послужило письмо первого секретаря Башкирского обкома Я. Б. Быкина Сталину, полное отчаяния. Видя, что творится вокруг, видя, что над ним самим собираются тучи, видя, что провокаторы уже рвут горло с трибун, обвиняя его в “мягкотелости” по отношению к “врагам народа”, к сосланным в Уфу ленинградцам, которых он трудоустроил, — Быкин писал: “Прошу одного: пришлите толкового чекиста. Пусть он объективно разберется во всем!”
Жданов появился в Уфе со своей “командой” и бросил встречавшему его Быкину со зловещей ухмылкой: “Вот я и приехал! Думаю, что я покажу себя толковым чекистом”.
На срочно собранном пленуме Башкирского обкома Жданов был краток. Он сказал, что приехал “по вопросу проверки руководства”, зачитал готовое решение: “ЦК постановил — Быкина и Исанчурина (второй секретарь. — М. Ч.) снять...” Быкина и Исанчурина увели прямо из зала, не дожидаясь конца пленума. Быкин успел крикнуть: “Я ни в чем не виноват!” Мужественно держался Исанчурин: “В Быкина верил и верю”. Обоих расстреляли. Расстреляли и беременную жену Быкина.
В заключительном слове Жданов снова был краток: “Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами...”»
Перебью М. Чванова. Тут опять, как и в случае с «высотой», вырвалась проговорка об их морали: «Моральная тягота разрядилась...» «Моральная тягота» для них — это когда мало крови.
М. Чванов: «Не успел Жданов уехать, а в Уфе уже повалились заборы». Оставшиеся в живых уфимцы до сих пор с содроганием и ужасом вспоминают о той «исторической» экспедиции, о вакханалии арестов и расстрелов, обрушившихся на город. Один из доносчиков с гордостью говорил потом с трибуны писательского собрания, что он, несмотря на свое слабое здоровье, лично выявил 26 «врагов народа». Кстати, он жив до сих пор, здравствует и пишет стихи о любви...
Я до сих пор с замиранием сердца прохожу мимо Ивановского кладбища (оно сейчас застроено), где по непроверенным данным (а как их проверишь?), по ночам, в длинных траншеях, закапывали убитых. Но закапывали не только там. Огромная уфимская тюрьма не была рассчитана на такое массовое «производство». Расстреливали в многочисленных уфимских оврагах, карьерах, увозили за город... Однажды благообразный старичок-пенсионер, бывший тюремный надзиратель, хвастался мне, что в те времена у них в тюрьме не хватало патронов, а камеры были переполнены, так чтобы как-то разгрузить тюрьму, устраивали что-то вроде субботников или воскресников (его слова), на которые приглашали уголовников, и, как полагается на субботниках и воскресниках, вооружали их ломами... Другой старичок, наоборот, жаловался, что времена были трудные, приходилось работать сверхурочно, и приходилось ему, следователю, заниматься не своим делом: «Надо уже домой идти, а тебя попросят: не успеваем, помогите, там еще семнадцать человек осталось. Устанешь, бывало, еле домой идешь. За это доплачивали, правда...»
Кроме Уфы, Жданов побывал тогда еще в Казани и Оренбурге, где провел аналогичные пленумы.
Документы, которые я использую, хранятся в Архиве Башкирского обкома КПСС (фонд 122). Они отчасти попали в «Советскую Башкирию» от 28 февраля 1988 г.
Такая вот страничка. Всего лишь одна из многих сотен, если не тысяч.
Это он, Жданов, заменив в декабре 1934 года убитого Кирова на посту первого секретаря обкома и горкома Ленинграда, и организовал «кировский поток», то есть это он прямо заказывал, составлял и подписывал те списки (главная часть его «Литнаследства» — хватит не на один том), по которым многие десятки тысяч ленинградцев «потекли» в тюрьму, в лагеря, в ссылку, на пытки, на смерть. Жизни и этих убитых, искалеченных людей, равно как и сломанные судьбы их детей, — прямо на его личном счету (тут никак не выговаривается: на его совести).
Сколько раз в своих длинных речах Жданов клеймил писателей, художников, философов, музыкантов за «отрыв от жизни». Зато сам и продемонстрировал эту связь, как он ее понимал: в тех списках, в той телеграмме. Одобрить, прославить такую связь — вот чего он хотел прежде всего, больше всего от самой культуры хотел, чтобы культура прославляла убийство самой культуры, кровавое насилие над народом, чтобы Ахматова и Шостакович создавали гимны в честь своих палачей.
И еще об этой связи, точнее — о первом и последнем звеньях ее (а сколько их еще — между ними!): от Жданова-идеолога до тех двух старичков-исполнителей, о которых пишет М. Чванов. У идеолога вроде бы чисты руки, у исполнителей — чиста совесть: разделение труда! А в итоге — чудовищный социально-нравственный разврат, выдаваемый за «твердость основ» и «чистоту учения». В итоге — преступления, переименованные в подвиги. Да учтем еще, что Жданов как «чистый идеолог» — это миф. Он — самый непосредственный организатор кровавой вакханалии, ничуть не лучше Ягоды, Ежова, Берии. И когда писал он свои литературные, музыкальные, философские доклады, когда музицировал на фортепьянах (умел), — когда писал эти доклады, листал их, читая, он писал, листал, музицировал — кровавыми руками. К этим его докладам тоже относится: «Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами...» И валились — люди, люди, люди...
Я знаю: уже написаны (и уверен: будут еще написаны) страницы и о его позорно-преступной роли в дни страшной и великой блокады Ленинграда, такие страницы, от которых, кажется, должны содрогнуться и все умершие тогда, но все равно, все равно закричат некоторые из живущих: «Очернительство!»
Тут мне хочется перейти на прямое обращение к этим энтузиастам борьбы с очернительством. Подчеркну: не к тем, кто не знает фактов, а к тем, кто их знает и скрывает. Не к тем, кто обманут или ошибается, а к тем, кто обманывает людей сознательно, — разумеется, разумеется, с самой «высокой целью».
Это раньше, лет тридцать назад, мы не всегда умели отвечать на ваши иезуитские, кривые вопросы. Теперь другое. Теперь уже вам приходится отвечать на вопросы прямые и ясные.
Что такое очернительство?
Сознательная клевета на миллионы честных людей — от мужика до академика, от грузчика до маршала — это не очернительство?
Сознательное уничтожение этих оклеветанных миллионов, уничтожение их «во имя социализма», — это не очернительство социализма?
Те списки, та телеграмма, те экспедиции в Уфу, Казань, Оренбург?
Травля представителей всех без исключения новейших областей науки?
Травля Ахматовой. Зощенко, а еще сотен, тысяч честных талантливых писателей, художников, музыкантов?
Имя Жданова на ЛГУ?
Это все — не очернительство культуры? Это все не оттолкнуло от нас десятки и сотни миллионов наших сторонников?
А правда об этом — очернительство.
А раскрытие чудовищных преступлений — очернительство.
А «Великая Реабилитация» (Евтушенко) — очернительство...
Сначала были оклеветаны, арестованы, уничтожены миллионы людей.
Потом арестованы, сосланы, заточены факты об этом (расстрелять факты — это, казалось, никому не под силу, но многие факты действительно были расстреляны, испепелены, развеяны, и никогда уже больше мы их не найдем).
Наконец, началось освобождение фактов.
И что же? Это освобождение вы и объявляете очернительством?
Вы пытаете факты точно так же, как ваши предшественники пытали живых людей.
Вы снова хотите их, эти факты, арестовать, заточить, испепелить.
Для вас преступлением является само раскрытие преступлений.
Почему?
Почему вы приходите в неистовство против тех, кто раскрывает преступления?
Почему не находите слов сострадания для жертв и слов негодования для палачей?
Почему — в лучшем случае — вы готовы признать черные страницы нашей истории «государственной тайной», до которой, мол, народ наш еще не дорос? (До расправы над собой дорос, а до правды об этой расправе не дорос?)
Почему?
Да потому, что боль человеческая, боль народная для вас — не боль, а «дежурная тема». Потому, что совесть для вас (со-весть) — это весть не о боли, не о судьбе народа, а весть о воле начальства сталинско-ждановской выучки. Вы сетуете о притеснениях народов во всех странах, кроме своей (да и в те ваши сетования я не верю, да вы и сами не верите).
Почему? Да потому, что вы — боитесь, боитесь и народа своего, и правды, и совести.
Потому, что доклады Сталина — Жданова, «Краткий курс истории ВКП(б)» — вот, по-прежнему, и весь ваш марксизм-ленинизм.
Потому, что вам мил именно тот социализм, очерненный, очерненный Сталиным — Ждановым, мил тот, и страшен этот, — очищенный, очищаемый на наших глазах.
Потому, что свободно дышать вы можете только в атмосфере, отравленной «ждановской жидкостью» (это для вас — нормально), а в атмосфере чистой вы — задыхаетесь.
Потому, что лишь в темноте вы чувствуете себя сильными (да и в самом деле — сильны), а на свету? На свету вы бессмысленно хлопаете глазами, как филины, и лепечете, что вы всегда тоже — «за», «за», «за»...
Знаю, знаю, всю жизнь от вас слышу: в сознании народа слова социализм и Сталин — слились, отождествились, и надо с этим считаться. Да, к беде нашей великой, это так (впрочем, далеко не у всех). Я бы даже добавил: слова эти — склеились. Ну и что?
Были в свое время склеены слова христианство и инквизиция, Христос и Торквемада. Расклеились. (Представляю, как обрадуется моей ереси идеологически безработный Крывелев: тут же отыщет богоискательство.)
А разве не склеивались в нашей истории слова Ягода, Ежов, Берия и — социализм? Или: Вышинский и советское право? Или: Бошьян, Лепешинская, Лысенко и — наука? Или: Заславский, Ермилов, Эльсберг и — совесть? Даже слова Лидия Тимашук и честность склеивались. Ну и что? Расклеились! И что случилось? Случилось очищение социализма, очищение науки.
Очернительство — это ложь.
Правда не может быть очернительством. Правда может быть только очищением.
Но все равно, снова и снова, слышу: «Но ведь были же у них и заслуги — у Сталина, у Жданова! Нельзя же так. Ведь должна же быть и тут диалектика...»
А знаете, я соглашусь с вами, если вы согласитесь с одним моим дополнением. Пусть будет по-вашему. Пусть будет, например, так: «Наряду с заслугами, у Сталина и Жданова был всего один недостаток: они были палачами»...
Кстати, вам вопрос: а к Ягоде, Ежову, Берии эта формула применима? А если нет, то почему?
И еще вопрос: сколько всего людей было незаконно репрессировано? Сколько из них — уничтожено?
Давайте подсчитаем вместе, друг друга поправляя и уточняя, давайте вместе все и опубликуем? Что, не хочется? А почему?
Не хотите вы этого даже и знать, а если б знали, сделали бы все для того, чтобы — скрыть. И — скрываете уже известное. И — травите тех, кто хочет узнать.
Вам еще придется доказать, что без ареста, без истребления миллионов честных людей мы не победили бы в войне. Докажите!
Докажите, что с этими миллионами мы бы войну проиграли.
И опровергните, что с этими миллионами мы не имели бы таких потерь и заплатили бы такую непомерную цену за победу.
Вот вся ваша «диалектика», если ее обнажить:
Да, Сталин оклеветывал и уничтожал честных людей, но ведь — «во имя коммунизма»! То, что оклеветывал и уничтожал, это, конечно, плохо. Но то, что «во имя коммунизма», — это хорошо...
А Ягода, Ежов, Берия, Вышинский, Жданов — не «во имя»?..
Иезуитство это, а не диалектика!
Правда в том, что слово Сталин на самом деле намертво, нерасторжимо, навсегда склеилось с другими словами, как раз вот с этими — Ягода, Ежов, Берия, Вышинский, Жданов плюс гигантский корпус доносчиков и палачей помельче, то есть плюс хваты, пытавшие академиков и маршалов, плюс рюмины, избивавшие врачей, плюс те старички, помогавшие в молодости перевыполнять планы по уничтожению людей не столь именитых. Вот все это (и еще многое, многое другое, подобное) и есть ваш совокупный Сталин. И эти слова уж никому и никогда не удастся расклеить...
А самое главное: Сталин — это беспрерывное, систематическое понижение цены человеческой жизни — до нуля, понижение цен личности — до отрицательной величины: личность — вот главный враг, вот что всего подозрительнее, всего опаснее. И когда повторяют, что при Сталине «снижали цены», то, во-первых, это просто неправда, а во-вторых, надо добавить: снижали цены — на человека, на личность!.. (А уж абсолютная аморальность его политическая — лишь одно из следствий этой основной посылки, определяемой в свою очередь мотивом абсолютного самовластия.)
Не отменяются всем этим наши победы, а лишь выясняется их цена. Не дискредитируются и действительные (а не мнимые) победители, но вам придется еще доказать, что обманутые люди лучше строят социализм и лучше его защищают, а необманутые — хуже. Докажете?
В череде всех этих вопросов, на которые придется теперь отвечать вам, не избежать и вопроса о гласности. Интересно, с какими чувствами, с какими мыслями прочитаете вы такие слова: «Свободная печать — это зоркое око народного духа, воплощенное доверие к самому себе, говорящие узы, соединяющие отдельную личность с государством и с целым миром; она — воплотившаяся культура, которая преображает материальную борьбу в духовную и идеализирует ее грубую материальную форму. Свободная печать — это откровенная исповедь народа перед самим собой, а чистосердечное признание, как известно, спасительно. Она духовное зеркало, в котором народ видит самого себя, а самопознание есть первое условие мудрости... Она всестороння, вездесуща, всеведуща. Она — идеальный мир, который непрерывно бьет ключом из реальной действительности и в виде все возрастающего богатства духа обратно вливается в нее животворным потоком».
Да разнесете вы эти слова в пух и прах — и потому, что они — дышат талантом (по сравнению с любезной вам казенной серятиной) , и потому, что они враждебны вам, ненавистны по существу, и потому еще, что не знаете, чьи они. А когда вам подскажут, ухватитесь, как тонущий за соломинку: «Это же Маркс ранний, несовершеннолетний, так сказать...»
Так вот, к вашему сведению, Маркс «поздний» не только не отказался от этих слов, а развил их: он предлагал, например, задуматься над осуществлением требования независимости партийно-коммунистической печати от ЦК, — именно для того, чтобы объективнее, независимее, плодотворнее проводить коммунистическую же точку зрения, которая вовсе не есть истина в виде военного приказа. Кстати, он и вас всех предусмотрел, когда сказал о точно таких, как вы: «Послушать их, так я не марксист...»
Ни одного вопроса нового не можете вы ни поставить, ни решить. Ведь ни единого проблеска, ни единого взлета своей собственной мысли, то излюбленной и выстраданной, то вдруг неожиданной и ошеломляющей! И неведомо вам возвышающее восхищение перед вдохновенной мыслью другого человека. Вместо этого вы знаете только то чувство, которое испытывает один пушкинский богач к «скрыпачу» на досуге. И это-то свое бесплодие вы и выдаете за «верность принципам». Для вас, в сущности, и Мысль — «вредитель», и Мышление — «враг народа». Вы и марксизм весь превратили в «зэка» и стережете, охраняете его, чтоб не сбежал. Вот единственное, на что вы способны, вот единственная ваша функция, единственное ваше «творчество»: охрана. Но теперь вы даже и тут — иссякли. Подорван источник вашего пустоцветного процветания. Вам грозит идеологическая безработица, ибо ваша идеология — это феномен уникальный, мутант, загадка природы: расширенное воспроизводство бесплодия, размножение интеллектуального импотентства.
Однако: сколько — при всем при том — у вас еще энергии, вашей специфической энергии нелюбви! Мне порой ее даже жалко: сколько ее расходуется зря или во вред. А если бы рационально? Бросить бы ее всю на СПИД — не будет СПИДА. Но бросить ее на культуру — культуры не будет...
Гарантий необратимости обновления еще нет. Зато нам наглядно и радостно продемонстрировали (речь идет о небезызвестном Манифесте Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами») маленькую репетицию удушения перестройки, микромодель реванша. Будем благодарны за хороший урок: гарантии только в нас самих. Я видел, слышал, знаю людей (их больше, чем казалось), которых уже ничем нельзя сбить с толку, запугать, сломить. Сталинщина, не выкорчеванная до конца, может породить нечто несравненно худшее.
И нельзя больше кропить людей «ждановской жидкостью», а между тем... Только что вышла 7-м изданием, тиражом в 200 тыс., книга Анатолия Абрамова «У кремлевской стены». Вышла в Политиздате. Подписана в печать 3 декабря 1987 года. Читаем в этом издании о Жданове то же самое, что и в первом (1974): «Под его руководством трудящиеся Ленинграда успешно боролись за досрочное выполнение планов второй и третьей пятилеток... В 1948 году именем выдающегося деятеля Коммунистической партии назван г. Мариуполь, имя Жданова носят улица, станция метро и «Первая образцовая типография» в Москве, улицы и заводы во многих городах и поселках страны». Ведь опять же: все, все знает человек о Жданове — не может не знать! — и все равно зачисляет его в «герои», в «легендарные соратники», в «мужественные строители». И точно такие же аморальные, внеморальные, «объективные» характеристики дает он и Вышинскому, и Мехлису...
Да, есть город Жданов. Есть даже еще один университет имени Жданова (в Иркутске). Есть многие тысячи улиц, заводов, фабрик, типографий, кораблей, институтов, колхозов, совхозов, школ, клубов, даже детских садов, дворцов пионеров (в том же Ленинграде) — имени Жданова. Уже имени Сталина почти нет, а имени Жданова — сколько угодно. Вся страна окроплена «ждановской жидкостью». Это своего рода рекорд. Только рекорд чего? Рекорд цинизма тех, кто сознательно не желает отказаться от прославления этого имени? Или рекорд нашего собственного невежества, равнодушия и бесхарактерности?
Получил письмо из г. Жданова: людей травят за то, что они хотят снова жить в Мариуполе. А вот еще из того же письма М. Чванова: «Мне казалось, что в Уфе нет ничего, носящего имени Жданова: был когда-то район его имени, но сразу же после смерти Сталина его переименовали, побоялись народа, но вчера позвонили: появилась улица имени А. А. Жданова»...
В Елабуге сохранился дом, в котором Марина Цветаева прожила последние дни своей жизни, в котором и погибла. На доме — мемориальная доска, будет, вероятно, и музей. Адрес — улица Жданова.
И это все — опять не очернительство? Не очернительство не только нашего прошлого, но и настоящего? Не заведомое очернительство и нашего будущего? И в XXI век войдем с этими клеймами?
Экология. Поворот рек. Отравление Байкала...
А еще — экология нашей нравственности. Повороты рек нашей культуры. Отравление наших духовных Байкалов... Все это предельно конкретно, наглядно — осязаемо и грубо — и выразилось в нашем самоокроплении ждановщиной, в нашем самоочернительстве.
Ну, так давайте опомнимся. До чего мы дожили: имеем в 1988 году Дворец пионеров имени Жданова — и где? На углу Невского и Фонтанки, у Аничкова моста... Какие добрые сказки должны сочинять вожатые детям об этом добром дяде?
От кого все это зависит? Да от кого же еще, как не от нас самих? От взрыва чувства нашего собственного достоинства, нашей чести, да просто — брезгливости. Если мы не хотим или не умеем добиться столь малого, то как добьемся большего? Вот мне и пришла в голову простейшая мысль: давайте (я обращаюсь к вам, читатели), давайте поставим эксперимент. Сколько же времени понадобиться нам для того, чтобы решить столь очевидную элементарную задачу: отмыться от «ждановской жидкости» хотя бы внешне (отмывание внутреннее — дело несравненно более долгое, сложное, но, может, и оно от того чуть ускорится)?
Ну, а тем, кому любезно это имя, посоветуем (этот совет при нынешней демократизации вполне реален) : пусть выстроят для себя — на кооперативных началах — хоть Ждановград, хоть Славождановск, хоть Жданофильск, а в нем — площадь имени Жданова, а на ней — памятники: Жданову-мыслителю, Жданову-полководцу, Жданову-литературоведу, Жданову — истребителю «врагов народа», и пусть опояшут этот последний теми списками, пусть выгравируют золотом ту телеграмму. Пусть ходят на демонстрации с его портретами, слушают кантаты в его честь и поют о нем песни. Все улицы, конечно, — ждановские, под номерами. Пусть выроют хоть десять искусственных рек его имени и ежемесячно перебрасывают их куда заблагорассудится. Пусть объявят конкурс на создание «Основ» и «Краткого курса» ждановизма. Пусть принимают ежедневно постановления в ждановском духе. Пусть объявят всех Мадонн, созданных всеми Рафаэлями и Леонардами, — богоискательством и некрофильством. Но вот тут-то и начнется: кто бдительнее? Кто мягкотел?.. Соревноваться будут. Вырезать из предпоследней главы «Идиота» цитаты о «ждановской жидкости»! Вырезать всю главу! Запретить весь роман — как диверсию против Жданова! Запретить всех тех, кто его читал! Запретить тех, кто это запрещал: ведь они же помнят! Запретить вообще думать о «ждановской жидкости»! И будут они все ошалело бормотать про себя: «Я о ней не думаю. Я думаю не о ней...» Глядишь, придется ведь открыть и тюрьму имени А. А. Жданова, и лагеря. Пересажают они все друг друга, так что два последних ждановца (ждановки?) друг на друга доносить побегут за то, что — думают о ней. Только — кому и куда?..
А теперь — осмелюсь оспорить мнение любимого мною Д. Гранина, который предложил: пусть будет просто — ЛГУ. Но есть имя бывшего студента Петербургского университета, гениального ученого, которого действительно по праву называют «Ломоносовым XX века» и без чьих идей «ноосферы» немыслимо и третье тысячелетие, — имя Владимира Ивановича Вернадского. По-моему, будет справедливо, если Ленинградский университет станет носить это имя своего студента, имя человека, который, помимо всего прочего, твердо противостоял ждановщине, который бесстрашно вступался за людей, преследуемых Ждановыми, имя человека, воплотившего в себе как раз все то, что было одинаково и недоступно, и ненавистно таким, как Жданов.
Однако не будем питать иллюзий: освободиться от ждановщины — несравненно труднее, чем переименовать университет, а переименовать университет — несравненно легче, чем чувствовать, мыслить и жить в духовно-нравственных координатах В. И. Вернадского. Но ведь вне таких высоких, чистых, благородных координат, вне координат нового мышления — нам вообще не выжить. А низкие, злобные, завистливые и мстительные координаты ждановщины-сталинщины — сегодня уже буквально самоубийственны.
Не имени Жданова, а имени Вернадского, — пусть само это противопоставление, пусть сама история этого переименования тоже станет для нас великим уроком. Это же действительно красиво, это — вдохновляет: Вернадский — вместо Жданова, благородство духа — вместо корыстного иезуитства, «ноосфера» — вместо... вместо чего? Ведь низость ждановской мысли даже и сферой никакой не назовешь. Не сферой же низости?
В. И. Вернадский писал: «Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом научной мысли человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетия, переживаем научные достижения, равных которым не видели долгие поколения наших предков.
Стоя на этом переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее. мы должны быть счастливы, что нам суждено это пережить, в создании такого будущего участвовать».
Даже во сне, в болезни, в бреду ему виделось это счастье, это будущее. Прочитайте его дневник за февраль – март 1920 года1:
«Мне хочется записать странное состояние, пережитое мной во время болезни. В мечтах и фантазиях, в мыслях и образах мне интенсивно пришлось коснуться многих глубочайших вопросов жизни и пережить как бы картину моей будущей жизни до смерти... В сущности и здесь — особенно в начале болезни — проходили и ставились две идеи: одна о новой мировой организации научной работы, другая — о соответствующей ей постановке исследований в области учения о живом веществе... В новых открытиях и среди новых вопросов шла вся моя жизнь, постоянно стремясь вперед. А вопросов и задач все более крупных являлось все больше. В свободное время по окончании работ я читал по философии, общим вопросам и великих поэтов. Почему-то не раз мне представлялось, что углубился в испанскую литературу, как новую, так и старую. Здесь я набрасывал мысли для последнего сочинения “Размышления перед смертью”... Умер я между 83–85 годами...»
Прошу Вас, читатель, поверить: если б Вы только знали, до чего же не хочется заниматься какой-то «ждановской жидкостью», когда есть Пушкин и Достоевский, Швейцер и Бор, когда есть такие люди, как Вернадский, есть такие мысли, такие сны. А все-таки — надо. Надо — именно для того, чтобы перестала она, жидкость эта, отравлять то счастье, чтобы не помешала она тому будущему, о котором говорил Вернадский.
И пусть выпускники ЛГУ получат, наконец, дипломы с именем чистым и навсегда надежным. Пусть и вчерашние школьники выводят это имя в своих заявлениях — и почему бы уже не в этом году?
Я уверен: все так и будет, как уверен еще и в том, например, что придется переименовываться и Ростовскому университету имени М. А. Суслова. Опять очернительство? Нет: опять против очернительства! Однако, как говорится в эпилоге «Преступления и наказания»: «Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен».
Я слышал такую критику моей статьи «Ждановская жидкость»: «Конечно, А. А. Жданов человек не святой, но нельзя же его так... Это не по-русски...» И при этом ни слова о ждановских списках, по которым уничтожены, сосланы, искалечены десятки тысяч людей... А такое беспамятство — по-русски? Или вот еще факт. Обнаружили в одном городе захоронение незаконно репрессированных или, как говорили на Руси, невинно убиенных. И что же? Было приказано: скрыть следы!.. То есть: опять забыть, залить память бетоном. Это — по-русски? Чем этот бетон лучше «ждановской жидкости»? Только не ведают бетонщики, что увековечивают они — себя, увековечивают в своем бесстыдстве, в своей бессовестности. Так хотели скрыть и Куропаты, этот сталинский Освенцим, — не удалось.
Знаю я и такой упрек в свой адрес: статьи «Грабли» и «Ждановская жидкость» написаны слишком эмоционально. Объяснюсь.
Во-первых, без эмоций нельзя, если ты — нормальный человек. В том-то и дело, что мы слишком долго отвыкали и почти отвыкли чувствовать, как чувствуется (а это — первоэлемент, это ядро «самостоянья человека»), отвыкали чувствовать без насилия над своими чувствами — свободно, честно, искренне. Именно сталинщина смертельно боялась нормальных человеческих эмоций, а потому их вытравляла, убивала, извращала, обесчеловечивала, заменяя их все на одну — стадную — эмоцию, на патологическую любовь к «вождю», на слепую веру в его абсолютную правоту и гениальность, на патологический же страх изменить этой любви, этой вере. Удушить, извратить эмоции и, значит, — расколоть ядро «самостоянья». А бояться эмоций — значит бояться быть самим собой. К тому же упреки в излишней эмоциональности со стороны тех, кому сталинщина любезна, насквозь лицемерны: вот уж кто преисполнен эмоций, только каких?
Во-вторых, в определении самых главных жизненных ориентиров, координат — зла и добра — наши эмоции (если они не задавлены, не извращены, не обесчеловечены) куда умнее, проницательнее нашего ума, которым мы так гордимся, куда его честнее и неподкупнее. «Ах, ох, какое унижение ума!» Никакое не унижение. Ум — совести великий помощник, а не господин и не надзиратель. А иначе он — вышколенный циничный лакей бессовестности.
В-третьих, истинно человеческие эмоции и призваны стимулировать, взнуздывать, оплодотворять мысль. Чувства должны стать теоретиками, говорил один великий мыслитель. Сильное честное чувство и порождает сильную честную мысль. Извращенные же эмоции неизбежно заставляют и мысль становиться олигофренической, импотентной.
Как раз о такой слабоумной (хотя и страшной) мысли я и писал: «Да, Сталин оклеветал и уничтожил честных людей, но ведь — „во имя коммунизма!”. То, что оклеветал и уничтожал, это, конечно, плохо. Но то, что „во имя коммунизма”, — это хорошо...»
Спрашивается: это что, эмоция и только? А для меня это — мысль о мысли, это сильная, горькая, честная мысль о мысли низкой, циничной и слабоумной. Говорю так, потому что идея этой сильной мысли — вовсе не моя, а Достоевского: «Каламбур: иезуит лжет, убежденный, что лгать полезно для хорошей цели. Вы хвалите, что он верен своему убеждению, то есть он лжет, это дурно: но так как он по убеждению лжет, то это хорошо. В одном случае, что он лжет — хорошо, а в другом случае, что он лжет — дурно. Чудо что такое». Вот я и хотел выявить мысль об абсолютном самоистребительном алогизме (змея себя кусает!) сторонников сталинщины, о полной их неспособности понять, в каком кровавом нонсенсе они запутались. В одном случае убийство хорошо, в другом — то же самое убийство — дурно? И с доносами так? И с пытками? И с пытками, убийством детей — тоже так?..
А ведь, казалось бы, для нормального человека все так просто: не нужны миллионы чудовищных фактов клеветы и убийств, а достаточно одного-единственного: если человек клевещет на другого и убивает его (или — организует убийство), клевещет и убивает его сознательно, боясь разоблачения своего полного несоответствия тому месту, которое он занимает (захватил), стремясь и дальше узурпировать власть, лживо прикрываясь высокими политическими, идеологическими целями, то какой еще может быть тут прежде всего, важнее всего вопрос, кроме вопроса о законе, о праве, об уголовном кодексе? Или для такого убийцы кодекс не нужен, не применим, так как он, убийца, занимает слишком высокий пост и апеллирует к слишком высокой политике? Ну так прямо так и скажите! Ему — можно. Ему даже дóлжно. А остальным?.. И что получите в результате? Получите двойную мораль (одним можно, другим нельзя). Это раз. Получите цепную реакцию социального и духовного разврата, потому что другие захотят того же. Это два. Нас это устраивает? Значит, мы и заслуживаем того, чтобы с нами так и обращались, так, как обращались при Сталине. А если не устраивает, значит, придется вернуться к началу начал, придется пресечь всякое превращение уголовщины в политику и идеологию, а идеологии и политики — в уголовщину. Придется относиться к уголовщине как к уголовщине. Придется обратиться к праву, к закону, равному для всех, без исключения. Вот и все. И однако же понадобились именно миллионы фактов, чтобы признать: достаточно одного-единственного. Это и значит (повторю в последний раз): не постой за волосок — головы не станет...
Цель — средства — результаты... В среднем звене здесь скрыты как истинная цель, так и цена результатов. Средства (как цель в действии и как цена) и входят в самое содержание провозглашаемой цели.
И если мы желаем понять сущность сталинизма, то и надо взять реальные, неприкрашенные результаты его воплощения, сопоставить их с реальными, неприкрашенными средствами, то есть с реальной ценой, и тогда перед нами откроется действительный смысл провозглашаемых им целей, то есть мы перестанем наконец быть дурачками, верящими сталинизму на слово. Причем — «считать» надо на его реальное отношение к человеку, к людям, к народу: здесь-то и выявляется все, все, все — и средства (цена), и результаты, и действительная цель. Сколько и каких людей уничтожено, искалечено, унижено?.. А еще безошибочнее «считать» на детей. Тема: «Сталин, сталинщина и дети»... Когда эта тема будет осмыслена на основе всей совокупности фактов, тогда она окончательно просветит всех еще способных просвещаться. Хотя не могу опять не сказать: здесь достаточно одного-единственного факта. И такой факт есть: отмена Сталиным всей и всякой законности, сталинский приказ-«рекомендация» — пытать, пытать подозреваемых (по клеветническим доносам!), приказ – «рекомендация» — применять беззаконие, применять «высшую меру», применять пытки — и к детям, достигшим двенадцати лет.
А пока нас больше всего просвещают результаты соединения кровавого разврата сталинщины с наживательским развратом брежневщины-рашидовщины (а тут есть глубокая внутренняя связь: безграничное насилие вполне натурально выродилось в безграничную коррупцию, тут общий знаменатель — абсолютная бесконтрольность). Эти результаты поставили страну на грань, за которой ей грозит немыслимая отсталость. Все это доказано и передоказано, все это очевидно и сверхочевидно для всех, кроме малых и больших алхимиков, — вот оно, воплощение ваших любимых «принципов»! Вот плоды вашего интеллекта и вашей морали!
При такой-то цене — такие результаты...
И после всего этого вы снова смеете претендовать на власть?! И после этого: «Не могу поступаться принципами...» До пропасти довели и все о «принципах» талдычат...
Но их не могут прошибить никакая логика, никакие миллионы фактов. И тут мы упираемся (хватит наивности) вовсе не в их «концепции» и «принципы» и даже не в их поразительно не скрываемую олигофрению (они ведь не только моральные, но и интеллектуальные жертвы сталинщины, которые уже не в силах понять своего убожества), мы упираемся в их интерес, в ту или иную их сопричастность к сталинщине (прямую или косвенную, грубую или потоньше, понезаметнее), в сопричастность к сталинской практике насилия над человеком, над мыслью, над культурой, в сопричастность к обесцениванию человека, в сопричастность к бесчеловечности. Упираемся в их страх (а это по-своему мощная сила), в страх признать эту сопричастность, в страх, спасающийся от самого себя переходом в наступление, упираемся в их агрессивность, конечно, под знаменем «верности принципам», упираемся в панические крики о «смертельной опасности» (для кого? для чего? — для сталинщины!). Упираемся в страх, который именно от страха и выдает себя за смелость. И да не обманемся мы этой «смелостью»...
Мы присутствуем при последнем историческом акте — издыхания, агонии сталинской бесовщины.
Однако нам еще не раз придется потрястись, ужаснуться ее преступлениям. Мы еще не раз будем задыхаться от слез и праведного гнева. Но наступит, я уверен, и такой момент, когда мы вдруг над Сталиным и сталинщиной — засмеемся! И это будет смех - освобождение, окончательное освобождение от сталинских кошмаров и миражей. Мы еще удивимся, не поверим: как это так, мы, такие, жили при тех кошмарах и верили в те миражи? Как это мы верили: Сталин — гений, так как он сам выдал себя за гения?.. Или: Сталин — гений, так как мы ему в этом поверили?.. Но это и будет означать, что мы уже не такие, что мы стали — другими. То есть: мы засмеемся над самими собою...
Ленин назвал Сталина Держимордой (это Сталин образца не 29-го, не 34-го и 37-го годов, а всего лишь образца 22-го года) и был за снятие его с поста генсека. Сталин (не один, конечно) скрыл ленинское Завещание (таким образом, Ленин был первым, кого он лишил гласности) и пустил слух о том, что Ленин был «не в себе», а потом вообще объявил Завещание «фальшивкой» и расстреливал тех, кто его знал и помнил. Мало того: создал миф о «великой дружбе» Ленина со Сталиным и заставил всю страну распевать и слушать:
На дубу высоком, да над тем
простором
Два сокола ясных вели
разговоры.
И как первый сокол со вторым
прощался,
Он с предсмертным словом к
другу обращался:
«Сокол ты мой сизый, час пришел
расстаться,
Все труды-заботы на тебя
ложатся»,
А другой ответил: «Позабудь
тревоги,
Мы тебе клянемся — не
свернем с дороги».
Дал он другу клятву, клятву
боевую
И привел он к счастью всю страну
родную.
А соколов этих люди все
узнали:
Первый сокол — Ленин, второй
сокол — Сталин.
А кругом летала соколятов стая...
Первый сказал о втором: «Держиморда». А поется: «Сокол ты мой сизый...» И ведь почти все мы слушали и пели...
И что же? Опять запоем? Запоем, если согласимся с Н. Андреевой, И. Шеховцевым, с их соавторами и почитателями. И. Шеховцев говорит о себе и о себе подобных даже не мы, а они, и говорит так: «Они хотят “реанимировать” Сталина как самого верного и последовательного продолжателя дела Ленина»2. Должен признаться: я давно уже не верю ни в искренность, ни в принципиальность таких людей, как Н. Андреева и И. Шеховцев. Но вот если они сами запоют эту «народную песню», если исполнят ее публично (желательно по телевидению, на всю страну), тогда, пожалуй, я возьму свои слова обратно. Спойте «На дубу высоком...»! Спойте хоть дуэтом, хоть хором («соколятов стая...»). Только дайте свой первый концерт в Куропатах, Магадане, на Соловках или в сталинско-ежовско-бериевских подвалах и застенках, спойте над только что отрытыми скелетами «врагов народа» с простреленными в затылок черепами да призовите на свой концерт чудом оставшихся в живых людей, их родных (они, может быть, вам подпоют?), спойте, если уж вы действительно искренни, если вы и в самом деле верны своим «принципам»...
Сейчас мы находимся на пути понимания того, чтó и как с нами произошло, на пути понимания того, как превратились мы в людей несвободных. Мы это уже почти поняли. Но этого мало. Нам еще предстоит достигнуть непонимания, да, да, именно непонимания, органического, в плоть и кровь вошедшего непонимания: как это можно быть — несвободными?
А теперь — об одном курьезе, нарочно не придумаешь. В мае я выступал в Ленинградском технологическом институте, в том самом, где преподает Н. Андреева, преподает не только химию, но и алхимию. И вдруг получаю записку: оказывается, были в XIX веке братья Ждановы, которые и изобрели «ждановскую жидкость», и учились эти братья-химики как раз в этом институте. Не хватает еще, чтобы сам А. А. Жданов оказался их потомком.
Но все-таки закончить хочется совсем не этим. Сталинщина-ждановщина действительно подыхает — туда ей и дорога. Мучает по-настоящему вовсе не она:
На жизнь надвигается юность
иная,
Особых надежд ни на что не
питая.
Она по наследству не веру, не
силу —
Усталое знанье от нас
получила.
От наших пиров ей досталось
похмелье.
Она не прельстится немыслимой
целью,
И ей ничего теперь больше не
надо —
Ни нашего рая, ни нашего ада.
Разомкнутый круг замыкается
снова
В проклятие древнее рода людского!
А впрочем, негладко, не просто,
но вроде
Года в колею понемножечку
входят, —
И люди трезвеют и все
понимают,
И логика место свое занимает,
Но
с юных годов соглашаются дети,
Что зло
и добро равноправны на свете.
И так
повторяют бестрепетно это,
Что кажется,
нас на земле уже нету.
Но мы — существуем! Но мы —
существуем!
Подчас подыхаем, подчас
торжествуем.
Мы — опыт столетий,
их горечь, их гуща.
И нас не растопчешь —
мы жизни присущи.
Мы брошены в годы,
как вечная сила,
Чтоб злу на планете
препятствие было!
Препятствие в том
нетерпенье и страсти,
В той тяге к
добру, что приводит к несчастью...
(Н. Коржавин — «По ком звонит колокол»).
Великий Смешной человек нашего времени Д. С. Лихачев дает телеграмму съезду писателей: «Покайтесь!» Факт — насквозь русский. Факт — исторический. А ему в ответ — «Нам каяться не в чем!» А вслед этому ответу — недавно — другой: «Наши личные подлости прежние и не подлости вовсе, а исторические добродетели...»
И это — на глазах юных! Мотайте, мол, на ус... Бесстыдство равняется мужеству?
Достоевскому — было в чем каяться. Толстому — было. Чехову!.. А тут — все нипочем... Тоже факт исторический. Запомнится.
Наше поколение... Время нас спрессовало. Теперь — это поколение, середина, ось которого приходится на 25–30–35-й годы рождения (иногда — старше лет на пять, на десять, иногда — немножко младше). В 37-м моему собственному, так сказать, поколению всего семь, в 41-м — еще одиннадцать, а в 56-м — уже двадцать шесть (уже и путы житейские, а начинай все сначала), а с конца 60-х мы потихоньку начали отъезжать с ярмарки. Тогда-то и сказал один бывший идеолог: «Надо перепрыгнуть через поколение XX съезда». И перепрыгнули — в брежневщену...
Смею думать: такого поколения — не было в истории России, а может быть, и в истории всечеловеческой: такие надежды, такой террор, такая война, такая жестокая проверка прежней веры да плюс еще — перелом во всем мировоззрении человечества, ставшего вдруг — смертным... И все это — выпало на долю одних и тех же людей, все это — по ним проехалось. Тут не о гордыне, тут — о последнем достоинстве.
Что отсюда следует? Только одно: мы должны обо всем этом честно рассказать, честно закончить свои дела. Из этого поколения уже вышли люди замечательные. Но я убежден: последнее слово этим поколением еще не сказано. Все зависит тут только от нас самих и прежде всего — опять от способности учиться. «Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродни мыслящему созданию. Бескорыстное признание в оном требует душевной силы» (А. Пушкин). «Нет раскаяния — потому что нет движения вперед, или нет движения вперед, потому что нет раскаяния. Раскаяние это как пролом яйца или зерна, вследствие которого зародыш и начинает расти и подвергается воздействию воздуха и света, или это последствие роста, от которого пробивается яйцо... важное и самое существенное деление людей: люди с раскаянием и люди без него» (Л. Толстой).
— Какое, милые, у нас
Тысячелетье
на дворе?
Борис Пастернак
Редакция одного журнала попросила меня ответить на письмо своего читателя о романе Б. Можаева «Мужики и бабы»3 — с тем, чтобы опубликовать это письмо и мой ответ вместе. Просьбу я выполнил Обе вещи ушли в набор. И вдруг мне сообщили: читатель от письма своего отказался, заявив, что он «погорячился», «поспешил» и что «сейчас не время ударять по Можаеву»...
Казалось бы, я должен быть вполне удовлетворен, тем более что в моем ответе была главка — «Придется взять свои слова обратно», и, кроме того, там говорилось: «Как Вы относитесь к гласности? Будем предельно конкретными. Я, например, обеими руками голосую за публикацию Вашего письма. А Вы за мое — проголосуете?»
Как видим, мой оппонент проголосовал даже против своего.
Возникла головоломка. Если против своего, значит — тем самым — за мое? Но зачем мое, если он от своего отказался? Но если отказался, выходит — я прав вдвойне?.. Ну и что? Он подтвердил мою двойную правоту и лишил меня возможности о ней сказать. Великолепная дебютная находка: он сделал два хода подряд и, не дав мне сделать ни одного, сдал партию.
Но вот вопрос: сдал ли? А может быть, только отложил? Судите сами.
Все дело в одном нюансе: Вас — оскорбили (а письмо о Можаеве, как убедимся, есть прямое оскорбление, и я принял его и на свой счет). Вас оскорбили, Вас вызвали на «дуэль». Вы принимаете вызов, являетесь и вдруг узнаете, да еще через третьих лиц: велено передать, что Вас «ударять» сейчас — не время, подождите...
Прибавьте к этому, что сначала автор письма (лицо весьма ответственное) выдвинул перед редакцией настоящий ультиматум, заявив: или вы меня напечатаете, или... И дальше были пущены в ход достаточно весомые политико-идеологические и организационные угрозы.
Прибавьте еще: он постарался, чтобы о его первом «ходе» знало как можно больше людей, а о втором — как можно меньше.
И еще: поскольку в свое время автор опубликовал немало столь же своеобразных писем в адрес других людей, — можно ли его отказ от своего последнего письма считать отказом и от предыдущих? А если так, то почему бы не сделать это тоже публично?
Пока я размышлял над этой головоломкой, выяснилось, что в ряде журналов и даже газет произошли точно такие же странные истории, но уже с другими авторами — других писем — и о Можаеве, и о других писателях. Оказалось: десятки разоблачительных ультиматумов тоже были срочно востребованы обратно. Оказалось: все их авторы тоже «погорячились». Оказалось: явление это стало типичным.
И тут-то я понял наконец, что головоломная задача — разрешима. Я решил объединить все эти истории в одну, то есть пойти навстречу всем этим авторам, открывшим, независимо друг от друга, упомянутую дебютную новинку: я обозначил их всех одним именем — Инкогнито, каковым каждый из них и пожелал быть.
Я решил горячо поддержать их в этом небывалом для нашего отечества начинании — забирать такие письма обратно. Я решил доказать им, что в этом своем начинании они в тысячу раз более правы, чем им даже кажется. Я решил, наконец, всячески споспешествовать тому, чтобы это начинание расширилось и превратилось в настоящее массовое движение со своими этапами. Этап первый: немедленно забрать свои эпистолы обратно, раз уж они посланы. Этап второй (переходный): не писать и не посылать таких эпистол, чтобы потом от них не отказываться. Этап третий (пока весьма утопический): вообще никаких гадостей по отношению к ближнему своему не замышлять.
Мы знаем великие почины, когда люди стремятся сделать как можно больше добра, почему бы не быть и такому почину, когда люди будут стремиться сделать хотя бы чуточку меньше зла?
Что касается Инкогнито, то он создан здесь или, точнее, воспроизведен по закону типизации, собирательности образа, но образа не художественного (это мне и не по силам), а документального.
Очень прошу читателей не искать за моим Инкогнито никаких конкретных — «вот этих» — людей, а, напротив, искать за ним — именно других, похожих, но которые еще не включились в новое движение, — с тем, чтобы уже сами читатели помогли им в него включиться.
Добавлю еще, что я совершенно убежден: будь мой Инкогнито сегодня, что называется, у власти со всеми своими прежними «горячими» убеждениями, он бы свое письмо — опубликовал, а мое — ни за что. Но смею уверить: я бы и в этом случае ни за что бы от своего не отрекся, потому что слишком уж хорошо знаю, что означает такая власть и для культуры, и для народа, и для всего нашего общества, потому что слишком уж серьезные вопросы поставлены сегодня перед нами.
Конечно, я бы все-таки не решился публиковать это письмо, если бы хоть на одно мгновение поверил в искренность моего оппонента, когда он объяснил отказ от своего ультиматума «торопливостью» и «горячностью», и если бы не расслышал в его фразе — «сейчас не время ударять» мечту о том времени, когда можно будет снова — «ударять».
Я и публикую это письмо в надежде содействовать тому, чтобы такое время не наступило больше уже никогда.
Письмо написано до того, как я узнал, что мой партнер взял свой «ход» обратно. Я ничего не менял в нем, только уничтожил все прямо узнаваемые признаки Инкогнито и прибавил количество его цитат (с соответствующим комментарием).
И последнее. Я сейчас не анализирую упоминаемые здесь художественные произведения (и, естественно, оставляю за собой право на несогласие с ними по каким-то пунктам). Говорю здесь не столько о «высоких материях», сколько о самых элементарных условиях нашей духовной жизни.
Представьте, любезный Инкогнито, что Вы, гражданин СССР, бывший офицер флота, советский писатель, опубликовавший уже немало превосходных и признанных произведений, представьте, что Вы только что напечатали новый роман в советском журнале и вот Вы — Вы! — получаете вдруг такую вот аттестацию:
«Какая странная компания: реакционные попы, славянофилы, Гитлер, белофинны... Надо ли попадать в такую компанию?»
Представьте и Вы, читатель, то же самое: это с Вами — с Вами! — произошло.
Представили? Ну и как? Понравилось?
Тогда уж тут, как говорится, одно из двух: или это правда, или клевета.
Как Вы поступите в том или другом случае?
Если это правда, то чего заслуживает человек, оказавшийся в такой компании? Ведь это, пожалуй, вопрос уже не литературоведения, а, так сказать, правоведения.
Ну, а если — не правда? Если — клевета? Чего заслуживает человек, так Вас оклеветавший?
Согласитесь, любезный Инкогнито, что была ведь своя красота, например, в изгнании его судом чести из полка, не так ли? У Вас нет ностальгии по таким временам? Но как быть с подобным человеком сегодня?
Слова о компании с Гитлером и белофиннами относятся к Борису Можаеву и взяты из Вашего письма по поводу романа «Мужики и бабы».
Хорошенькое начало «новой культуры полемики», «нового мышления»: если уж Вы к своим относитесь как к врагам, то как же с этакими взглядами во всем мире сегодняшнем жить?
Письмо Ваше обрадовало меня чрезвычайно. Чем? Своим органическим бессилием в защите дела неправого. А это бессилие выражается как в том, о чем Вы умалчиваете, так и в том, на каком уровне Вы ведете полемику.
Почему была прервана перестройка, начавшаяся в 56-м? Причин много. Одна из них — хорошо организованная травля писателей, осмелившихся сказать правду о серьезных болезнях нашего общества.
Что грозит перестройке сегодняшней? Угроз опять много. И опять одна из них — попытка организации подобной же травли.
Вы помните, кто и как травил В. Дудинцева за его роман «Не хлебом единым»? Забыли? Напомню. «Любителей» была масса, многие тогда «разлакомились» (по слову Достоевского), и один из них — Вы.
Именно Вам принадлежит статья, где этот роман был подвергнут разгрому (точно такими же приемами, какими сегодня Вы громите Можаева). К этому времени авторы поретивее уже расправились с Дудинцевым. Он был избит. А Вы? Вы лишь добивали, добивали — лежачего. Вот цитаты:
«Советская действительность отображена в романе односторонне, однобоко и потому неправильно. Верность деталей картины не спасает от того, что в целом она фальшива». И, конечно, следует Ваш классический ярлык: «огульное охаивание»...
Врач ставит диагноз: опасная болезнь, смертельно опасная... А ему в ответ: «огульное охаивание»... Чего «охаивание»? Организма? Самой болезни?.. Вас бы в медицину. Вы б вообще запретили все диагнозы серьезных болезней, полагая, что таким путем разом исчезнут и сами эти болезни. У Вас и в социальных заболеваниях виновата социальная диагностика, особенно ранняя...
«Если верить автору, то Лопаткину (герой романа. — Ю. К.) так и не удалось найти организованную силу, которая, преодолевая бюрократизм, косность и пережитки прошлого, активно помогала бы изобретателям в деле создания машины. Но поверить в это невозможно, ибо (?!) это противоречит правде жизни».
Если верить истории, то, например, академику Н. И. Вавилову тоже «так и не удалось найти организованную силу, которая, преодолевая бюрократизм, косность и пережитки прошлого», активно помогла бы великому ученому спастись от уготованной ему гибели. Или: «поверить в это невозможно, ибо это противоречит правде жизни»?
А «правда жизни», по-Вашему, состояла в том, что развертывалось «массовое движение изобретателей и рационализаторов»: «Эта борьба идет не без сопротивления, не без отдельных неудач, не без временных разочарований у отдельных новаторов и передовых ученых». Ибо: «Никто не будет отрицать, что у нас не изжиты еще полностью пережитки прошлого во взаимоотношениях отдельных людей».
«Не без отдельных неудач...» — так ведь о веснушках на лице красавицы пишут. Хороши «пережитки прошлого во взаимоотношениях между отдельными людьми», если одни на других доносят, одни других убивают и пытают. И Вы прекрасно обо всем этом знали и тогда.
Да, Вы добивали лежачего. Но: «лежачий Дудинцев» — это его не унизит. Он выдержал все, зализал свои раны (одна из них Вами, уже в спину, была нанесена, — в народе это называется: бить исподтишка). И вот перед нами «Белые одежды». Почти тридцать лет писал. А недавно признался:
«Оппоненты и не подозревали, что какая-то часть моего естества прыгает от радости, получая новую драгоценную информацию из первых рук. Помню, как прячась, торопливо записывал живые слова, оброненные моими хулителями. Чем больше эти люди старались, тем больше материала получал я для новой работы... Разгром романа подействовал на читателей неожиданным образом. Хлынул поток писем и посетителей. Люди дарили мне дневники, мемуары, исповеди, несущие на себе печать исторического процесса. И это также оказалось необходимым для нового произведения — уже тогда начал возникать его замысел. В случае со мной отразились громадные сдвиги, происходившие в нашем обществе. Считаю себя счастливцем, потому что и первый, и второй мои романы синхронно совместились с явлениями, рожденными временем»4.
А Вы? Тоже прыгали от радости? И что за новый замысел вызревал у Вас? Этот, что ли, когда через несколько лет Вы еще раз проявили свое «мужество» и в очередной раз изобличили того же Дудинцева: «пресловутый роман», «отступничество от социализма», «скатился в антисоветское болото»?
Или этот, когда к Дудинцеву приплюсовали других «жертв и носителей хмурых и “оттепельных” настроений»?
Или когда вдруг обрушились и на Марину Цветаеву? На Марину Цветаеву, женщину, покончившую с собой (тут нет Вашей вины? Но я знаю людей, бывших тогда детьми, и до сих пор мучающихся совестью за ее смерть). На Марину Цветаеву, которая умела сопротивляться так, как Вы, мужчина, бьющий — в спину, лежачих, исподтишка, и представить себе не можете:
Отказываюсь — быть.
В Бедламе
нелюдей
Отказываюсь — жить.
С
волками площадей
Отказываюсь — выть.
С акулами
равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз —
по теченью спин.
Или это, что ли. Ваш замысел осуществленный, — когда Вы с восторгом аплодировали словам Семичастного и других в адрес автора «Доктора Живаго» (осень 58-го): «литературный сорняк», «предатель», «собачий нрав»; «паршивая овца», «недовольная лягушка», «озлобленная шавка», «он нагадил там, где ел», «свинья не сделает того, что он сделал», «Иуда — вон из СССР!»...
Вы аплодировали и — развивали эти «тезисы». Вы — били, били, опять — лежачего, а он? Он, и шестидесятивосьмилетний, он, навсегда оставшийся гениально простодушным юношей, понять не мог, — за что, за что — бьют:
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то
воля, люди, свет.
А за мною шум погони,
Мне
наружу хода нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели
сваленной бревно —
Путь отрезан
отовсюду,
Будь что будет — все
равно.
Что ж посмел я
намаракать,
Пакостник я и злодей?
Я
весь мир заставил плакать
Над красой
земли моей...
А помните, какую травлю Вы устроили Евгению Евтушенко за его стихотворение «Наследники Сталина», уже после того, как в печати вообще исчезли даже упоминания о XX и XXII съездах?
А сколько лет Вы отучали (не отучили) Андрея Вознесенского от «абстрактного гуманизма», который Вы ухитрились отыскать в таких двух строчках:
Все прогрессы реакционны,
Если
рушится человек.
Вы ненавидели эту формулу как личного врага. И до сих пор — ненавидите?
А Василий Шукшин, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Андрей Тарковский, Элем Климов, Алексей Герман и еще десятки таких — ведь на то, чтобы не дать им писать, петь, говорить, рисовать, показывать — правду. Вы, конкретный гуманист, затратили, наверное, сил не меньше, чем те Ваши двойники, которые хотели повернуть северные реки вспять.
Или всего этого — не было?
Или говорить об этом — тоже «огульное охаивание»?
И, уж конечно, Ваша травля этих людей — не «огульное охаивание»?
Все знают: хриплый голос Высоцкого — от природы. Но мне казалось и тогда, когда он был жив, и теперь еще больше кажется: голос его оттого такой, что Вы певца за горло держали.
Мне судьба — до последней
черты, до креста
Спорить до хрипоты
(а за ней — немота),
Убеждать и
доказывать с пеной у рта,
что — не
то это вовсе, не тот и не та!
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Даже если
сулят золотую парчу
Или порчу грозят
напустить — не хочу, —
На
ослабленном нерве я не зазвучу —
Я
уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!..
Мало кто из художников столь надежно поддерживал веру в духовное возрождение страны, как Булат Окуджава и Владимир Высоцкий. Только один пел — тихо, печально, мудро, а второй — неистово, гневно, хохоча и плача. Один словно и не замечал Вас, второй — дразнил, и оба — презирали и — ничуть не боялись. Зато — как боялись их Вы, как ненавидели (а какая-то частица и Вашего существа, я убежден, даже завидовала — и этой тихой благородной уверенности, и этому безоглядному отчаянному напору).
Начало всем подвигам — «нравственный устой», подвиг правды. («Без этого нравственного устоя, — говорил Достоевский, — и рубль не поправится».)
И вот перестройка сегодняшняя. Она ведь начинается с себя, не так ли? Так почему бы и Вам не начать с себя? Рассказали бы (особенно — юным) о своем соучастии в травле Дудинцева, Паустовского, Пастернака, Цветаевой (всех не перечесть). Или Вы это до сих пор «подвигом» своим считаете? Ну, что ж, так об этом прямо и скажите: вон, мол, еще когда за мной какие подвиги числились, а теперь я на новый — синхронно — иду. Помните Ганчука из «Дома на набережной» Ю. Трифонова? Помните, как он источником всех бед наших считал, что в 28-м году кого-то не добил до конца? Вот и Вы такую же оплошность допустили...
Рвусь из сил — и из всех
сухожилий,
Но сегодня — не так, как
вчера:
Обложили меня, обложили —
Но
остались ни с чем егеря!..
Ваша любимая формула все та же: «автор устами героя...» Причем каждый раз эти «уста» оказываются почему-то устами разных героев, в зависимости от того, какого из них Вам в данный момент надо выдать за автора. Спорить тут вообще не о чем. Автор не герой, герой не автор — это азбука. Отрицание этой азбуки — Ваш уровень полемики. Вы приписываете автору мысли героев, то есть делаете то, что называется «чтением в душе» автора, а это искусство проходит вовсе не по ведомству литературы. Тут не литературоведческая оплошность, а неразборчивость средств. Такими средствами можно «доказать» все что угодно.
Я напомню Вам то, что Вы знаете, наверное, получше меня. А. А. Жданов в 46-м году взял героев Зощенко, приписал их взгляды автору и пришел к умозаключениям, имевшим самое практическое воздействие на судьбу этого автора:
«Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта... Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения, и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?.. Только подонки литературы могут создавать подобные “произведения”... Зощенко с его омерзительной моралью... Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку... Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко... Какой вывод следует из этого?.. Пусть убирается из советской литературы».
Похоже? Так Вы эти, что ли, порядки хотите возродить? По таким временам — ностальгия? И схема разноса — одна и та же: взгляды героев приписаны автору, и ярлык политический, как гиря к ногам...
Вы пишете: «В построении своих исторических схем Б. Можаев стремится привлекать кое-где авторитет Ленина. Думаю, что это лишь тактический временный прием. Как видно из материала книги, ее автор в действительности противопоставляет свою позицию взглядам Ленина».
Как видно из материала Вашего письма, его автор в действительности уже физически не может не подозревать честного человека в бесчестных мыслях. Ему всюду мерещатся «тактические приемы». На чей аршин он всех меряет?..
И ко всему роману Можаев берет эпиграф из Ленина и — верен ему на протяжении всего романа: «Не надо обольщать себя неправдой. Это вредно. Это — самый главный источник нашего бюрократизма».
Академик ВЛСХНИЛ В. А. Тихонов пишет, предваряя роман: «Все образы выписаны одинаково ровно, и именно это создает убежденное впечатление того, что здесь действует народ. Ему противостоит группа социально незрелых, малообразованных, не ведающих последствий своих деяний политических авантюристов, безликих, но сплоченных общностью групповых интересов. Эта группа — совсем не мелкое местное явление. Интересы карьеризма, а для этого — угодничества, с одной стороны, и авантюризма, ради рекламы своего революционного рвения — с другой, сформировали не отдельных “головотяпов”, а сильные и влиятельные социальные группы».
Интересно мне очень: сколько десятилетий Вы — как ученый — изучали крестьянский вопрос в России? Сколько ночей Вы — просто как человек — спать не могли, мучаясь судьбой наших мужиков и баб? Сколько раз делили с ними их труд, хлеб, страх, надежду? Сколько раз ломали голову над тем, как и с налогами справиться, и детей накормить, да еще углядеть, чтобы они, дети, на «колоске» не попались, да еще «колосок» этот самому незаметно пронести, принести, — для них же, для детей? Вас — ни за что, ни про что — не выгоняли вместе с детьми Вашими (а иногда и порознь) на мороз? Вас — не выселяли в степь или в тайгу? Вас — не били Возвышаевы на глазах Ваших детей? А Вашего отца? Мать? Ваших родных? Нет? Поблагодарите за это судьбу. Но ведь обо всем этом у Платонова, Твардовского, Залыгина, Абрамова, Белова, Тендрякова, Астафьева, того же Можаева можно прочесть и, казалось бы, нельзя не потрястись. Но Вы не потряслись. Нет, Вы ему же, Можаеву, «мораль» читаете. Вы — его — учите, как к мужикам и бабам относиться надо.
А в сущности, ведь Вы с хорошими писателями поступаете точно так же, как Возвышаев — с хорошими мужиками, как Лысенко — с истинными учеными, как Ассикритов со Свешниковым («Белые одежды»), как «доктор Д.» с Тимофеевым-Ресовским («Зубр»), — всех под «кулаков» подводите.
Из-за Возвышаевых хлеба насущного не хватает. Из-за Вас — хлеба духовного. Вы «раскулачиваете» — совесть, мысль, талант...
Один герой Можаева рассказывает о «Городе Солнца» Кампанеллы: там устанавливаются специальные ящики для доносов, и каждый член коммуны должен писать доносы друг на друга.
А Ваша реакция на это? Вы опять приписываете Можаеву, будто он считает самого Кампанеллу — доносчиком!
Спрашивается: есть в «Городе Солнца» ящики для доносов, поощряются там доносы или нет? Есть. Поощряются. Ну, и как прикажете к этому относиться? Восторгаться, что ли? Герой (а в данном случае, конечно, и автор) почему-то относится к этому сугубо отрицательно. А Вы? Вы не нашли ничего лучше, как заклеймить героя и автора именно за то, что они против доносительства.
Ну, а в самом деле: как Вы относитесь к наветам? Это у Вас тоже проходит по списку «не без отдельных неудач», по списку «еще не полностью изжитых пережитков прошлого»? Или не было их, что ли, наветов? Спросите об этом у того же Дудинцева или Можаева, Гранина или Рыбакова, поскольку у Зощенко и Ахматовой или у Мандельштама и Платонова, Пильняка и Чаренца уже не спросишь. И еще такой вопрос: Вы когда-нибудь задумывались (хотя бы про себя, наедине), сколько конкретно было людей, живых, здоровых, творящих, работающих не за страх, а за совесть, сколько их было незаконно репрессировано? Задумывались, что ведь в жизни каждого из них был чей-то донос, опубликованный в газете (вместо ящика) или анонимный — в «инстанции»?.. Или: не надо вовсе об этом задумываться? Или: надо запретить об этом задумываться?
А если наши дети (внуки уже) пытают нас такими вопросами, особенно после «Покаяния», «Котлована», «Реквиема», «По праву памяти», «Белых одежд», «Зубра», «Детей Арбата»? Врать им? Молчать?
Ну, и скажите, скажите прямо: не надо правды! ни в коем случае! опасно!
Кому опасно — тем, кто доносил, или тем, на кого доносили? Или, может быть, народу, обществу нашему?.. Опасно — вылечиться?!
Кстати, не пора ли решать и эту проблему научно? Как Вы думаете? А то — предмет есть, — да еще какой предмет, а науки о нем — нет. Вот Вы сейчас много пишете о необходимости «гуманизации образования», о значении «высокой нравственности», — так разве такая наука — не гуманизация на деле? Не конкретный гуманизм? Не воспитание высокой нравственности? Ну, а название ей надо дать, конечно, какое-нибудь латинизированное. По-латыни донос — delatio. Значит: делатиология. Вы бы взялись вести такой спецкурс?
Однако до научного решения этой проблемы, вероятно, еще далеко, зато художественно она, наконец, начала решаться: Краснов из «Белых одежд», Шарок-младший из «Детей Арбата», «доктор Д.» из «Зубра». Да, к счастью, и не только художественно. Недавно прочитал в «Известиях», как уже в наши дни пресекли одного, мягко говоря, «охранителя», который, вооруженный одним-единственным тезисом — «бытие первично, сознание вторично», — послушал, посмотрел, как работают талантливые ученые на стыке наук, ничего не понял своим очень уж «вторичным сознанием» и — написал разоблачительную бумагу: дескать, зашифровали борьбу с марксизмом, дескать, борются с ним на специально созданном для этой цели языке. Схема самая примитивная: невежество — непонимание — подозрительность — delatio. А результат? Ущерб науке, травля людей. Конечно, разобрались, но какой ценой?
Не может быть красота достигнута некрасивостью.
«Красота мир спасет» (Достоевский).
«Некрасивость убьет» (он же).
Не могут к чистой цели вести грязные средства.
Не может быть донос орудием истины.
Цель не оправдывает — определяет средства.
Средства и есть цель в действии.
«...цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель».
Не нравится? И это не нравится:
«Характер средств должен быть таков же, как характер цели, только тогда средства могут вести к цели. Дурные средства годятся только для дурной цели, а для хорошей годятся только хорошие», и всякие правила вроде — «цель оправдывает средства», «хорошая цель — дурные средства», «годятся лишь для негодяев, желающих туманить ум людей и обворовывать омраченных» (Чернышевский).
А вот нечто другое: «У него хорошо в тетради (это Петр Верховенский из “Бесов” о Шигалеве говорит — Ю. К.), — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов... Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина!»
Лет восемь назад я читал лекцию в одной библиотеке — о Достоевском и Толстом. С места был задан вопрос:
— Вы так много говорите о совести, что отсюда всего один шаг до бога. Я ответил:
— А от бессовестности и того меньше, полшага не будет, — до Берия.
В результате — опять delatio: у лектора тяга к богостроительству и какие-то не наши настроения...
Точь-в-точь как недавно И. Крывелев — об Айтматове, Быкове, Астафьеве. Как С. Трапезников — двадцать лет назад — о Федоре Раскольникове. Как Б. Лихачев — о Сухомлинском. Как Вы сейчас — о Можаеве, Дудинцеве, Гранине, Рыбакове. Неужто в «Городе Солнца» нет других примеров для подражания?
Герой Можаева утверждает: «Я не хочу, чтобы после этого скачка, о котором ты говоришь, через полсотни или сотню лет в народе говорили о нем так же, как говорят до сих пор о главном деле Петра: “Петербургу быть пусту”. Сколько полегло народу в этих болотах на постройке новой столицы? Миллионы! И что же? Искусственность этой столицы даже через двести лет сказалась. Нельзя гнуть историю, как палку через колено».
Ваша оценка: «И это — о городе Ленина, о городе революции!»
Но ведь это уже почти плагиат — у А. А. Жданова, который писал: «Для Зощенко, Ахматовой и им подобных Ленинград советский не дорог».
Но полноте, не пугайте ни себя, ни других. Не о городе Ленина, не о городе революции речь, а о том, что делали с историей народа нашего, что делали с этим городом, то есть с людьми этого города, — Возвышаевы.
Это было, когда улыбался
Только
мертвый, спокойствию рад,
И ненужным
привеском болтался
Возле тюрем своих
Ленинград.
И, когда, обезумев от
муки.
Шли уже осужденных полки,
И
короткую песню разлуки
Паровозные
пели гудки.
Звезды смерти стояли над
нами,
И безвинная корчилась Русь
Под
кровавыми сапогами
И под шипами черных
марусь.
Спрашивается: было всё это или не было? Кто это творил? Никто? Вы не жили тогда в Ленинграде? Да если бы и не жили — неужто не заметили, не слыхали? Неужто забыли? И неужто экспедиция Запорожца в Ленинград с такими подонками, как Шарок-младший, экспедиция — по приказу Сталина, — ничего не напомнила? Вам за город Ленина, за город революции — не больно? Ни тогда, ни теперь?
Вы когда-нибудь задумывались над словами: «Предательство — замороженная память» (О. Мандельштам)?
А заметили Вы, что Вас возмущают именно те, кто об этом говорит, и абсолютно не трогают те, кто это делал? Возмущает не преступление, а его раскрытие! Но отвлечемся от Вас.
Существует поразительное внутреннее созвучие: «Мужики и бабы» — «Реквием» Ахматовой...
Наверное, такого созвучия и не может не быть у всех, для кого беда народная — стала своей.
«В страшные годы ежовщины я простояла семнадцать месяцев в тюремных очередях. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
— А это вы можете описать?
И я сказала:
— Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».
«Анна Ахматова является одним из представителей безыдейного реакционного литературного болота. Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, безыдейной, аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. Акмеисты представляли из себя крайне индивидуалистическое направление в искусстве. Они проповедовали теорию “искусства для искусства”, “красоты ради самой красоты”, знать ничего не хотели о народе, о его нуждах н интересах, об общественной жизни» (А. А. Жданов)...
Нет, и не под чуждым небосводом,
И
не под защитой чуждых крыл, —
Я была
тогда с моим народом,
Там, где мой
народ, к несчастью, был.
«Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ничего, кроме вреда» (А. А. Жданов)...
Какой жуткий скрип — во время звучания высокой, трагической музыки. Но ведь в действительности все было несравненно хуже. И все-таки — победила эта музыка.
Опять поминальный приблизился
час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И
ту, что родимой не топчет земли.
И ту, что, красивой тряхнув
головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как
домой».
Хотелось бы всех поименно
назвать.
Да отняли список, и негде
узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из
бедных, у них же подслушанных слов...
И если зажмут мой измученный
рот,
Которым кричит стомильонный
народ.
Пусть так же они поминают меня
В
канун моего погребального дня.
«Реквием» Ахматовой — беспримерен. Может быть, и во всей мировой культуре — беспримерен.
Самое непостижимое: он был создан прямо тогда (1935–1940 гг.). Небывалая стенограмма небывалой боли и — небывалого подвига.
(А еще сохранились многие страницы другой небывалой стенограммы — самогó создания «Реквиема» и спасения его, страницы, написанные друзьями Ахматовой.)
Не герою великому, не отдельному лицу он посвящен — народу целому.
Не «черный человек» — сам «стомильонный народ» и заказал его.
Это поистине народный «Реквием»: плач по народу, средоточие всей боли его, воплощение его надежды.
Впитав в себя эту боль, воплотив эту надежду, Ахматова н сделалась — народным поэтом.
Это — русский «Реквием», русская «Лакримоза», русский образ скорбящей Матери и Жены.
«Реквием» — победа, только не в избито-казенном («от победы к победе»), а в старинно-русском смысле этого слова: одоление беды (пó беде)... Ахматова победила: она первая воздвигла памятник всем жертвам беззаконий еще в момент торжества этих беззаконии. Сначала это был памятник тайный. Теперь мы все можем видеть его — и начинаем понимать, что он воздвигнут навечно.
Хотелось бы всех поименно
назвать,
Да отняли список, и негде
узнать...
Ахматова первая и начала искать этот бесконечный — поименный — список (не о цифрах же только речь). И если есть у нас совесть, может ли она смириться с тем, что восстановить его полностью уже почти невозможно?
Об этом — письмо женщины, по-видимому, еще не прочитавшей «Реквием», но только что потрясенной поэмой А. Т. Твардовского «По праву памяти»:
«Мы ждали этого пятьдесят лет. Мы верили, надеялись, что это будет, не может не быть. По законам совести, добра и справедливости. Кто-то должен был это сделать. А. Т. Твардовский рассказал обо мне, его дочери. Все так и было, как в поэме. Может, правда, в Магадане или на Урале искать могилы своих без вины виноватых, оклеветанных, уничтоженных родных?
Куда пойти, куда податься? Кого спросить? Кому поклониться, чтобы узнать правду до конца?.. Уже не верю, не надеюсь, что кто-нибудь где-нибудь знает сегодня что-нибудь о каждом поименно из тех, кто пал жертвой культа личности в период нарушения законности в стране. О выдающихся людях — да, может быть, но о каждом “мужике” — вряд ли.
А какая-нибудь статистика, кроме поэтической, имеется? Тоже вряд ли».
Но ведь уже само это письмо — еще один след еще одного нестертого имени. А сколько всего по стране таких писем, а иногда и дневников, а больше всего — нигде не записанных воспоминаний. Нельзя допустить, чтобы пропали эти последние следы...
Еще одно письмо — тоже отклик на поэму Твардовского:
«Вот что не дает мне покоя. Есть Пискаревское кладбище. Мамаев курган... Пионеры и энтузиасты много сделали и еще будут делать многое для неизвестных героев Великой Отечественной войны. И это правильно.
А как быть с другой памятью, о которой писал А. Т. Твардовский?
Должен, должен быть Мемориал погибших безвинно!..».
А пока действительно такой Мемориал, такая минута молчания, список такой, — все это пока — память почти исключительно поэтическая, художественная, но ведь все равно уже «размороженная» навсегда, и она помогает «разморозиться» памяти людей, которым есть что вспомнить, что сказать...
Не знамение ли: «Реквием» и «По праву памяти» опубликованы одновременно («Реквием» — через пятьдесят, «По праву памяти» — через двадцать лет после написания). Словно вспыхнули вдруг из разных времен и — скрестились два мощных луча и — высветили самый черный кусок нашего неба.
Вообще: последние два-три года (а наверное, и несколько последующих) — небывалые во всей истории нашей словесности. Никогда еще на такой малой площади не появлялось — разом! — так много и такой литературы, именно из разных времен, но, в сущности, об одном и том же. Никогда еще не было такой социально-художественной панорамы, такого скрещенья разновременных лучей, такой полифонии голосов, принадлежащих и живым, и умершим. В этих произведениях изображена целая эпоха нашей недавней истории. Возникает настоящая «вторая действительность» этой эпохи, то есть ее реалистический художественный образ. Но для того, чтобы нам всем пережить и осмыслить эту «вторую действительность», для того, чтобы она сделалась плотью наших убеждений, фактом нашего самосознания (самосознания трезвого, беспощадного, уже без всякого самообмана), — для этого нужно, конечно, время, нужен огромный труд нашей совести и ума.
Зато и предпосылки для этого труда тоже небывалые. Посев такой —произведен, что, похоже, его уже не вытоптать...
Однако я совсем забыл про Вас.
Я хотел сказать, что для Вас можаевские мужики и бабы — это как бы и не народ вовсе и, уж во всяком случае, не великий народ, а так, историческая периферия, задворки, а точнее — какие-то щепки, опилки истории. Да и сама история для Вас — это не возделывание сада, а рубка леса, сплошной лесоповал.
Еще я хотел сказать, что Можаев имеет право повторить:
Опять поминальный приблизился
час,
Я вижу, я слышу, я чувствую вас...
Он выстрадал, завоевал право сказать так о своих мужиках и бабах, над которыми издевались Возвышаевы и Алексашины.
А Вы его, его громите, а не этих, не этаких...
Спрашивается: кто же они Вам, если он — Ваш главный враг («в компании с Гитлером»)?
Неужели для Вас и «Реквием», и «По праву памяти» тоже «огульное охаивание»? Неужели сама боль народа, сам стон от этой боли для Вас тоже «клевета на действительность»? А письма те — о безвестных могилах, о Мемориале? А тот вопрос — ахматовской женщины с голубыми губами?.. Это не глас народа?
А. А. Жданов клеймил Ахматову, не зная (а если б знал?), что «Реквием» был уже написан, не зная, что одиннадцать человек уже прочли его, и ни один не выдал. Ни одного Иуды. Вас это не вдохновляет? А если да, то на что вдохновляет?..
Недавно Вы настаивали на том, чтобы «поднять А. А. Жданова», подтвердить и актуализировать принципы критики в адрес журналов «Звезда» и «Ленинград», то есть, говоря конкретнее, в адрес Зощенко и Ахматовой.
Хотел бы я знать, как Вы это сделаете.
Переиздадите все доклады А. А. Жданова по литературе, искусству, музыке, философии? То есть запретите все, запрещенное им? Или будете выпускать сочинения Зощенко и Ахматовой только с его предисловием? И музыку Шостаковича прикажете исполнять с одним непременным условием: перед ее исполнением зачитывать изречения А. А. Жданова? Или, может быть, на памятнике Гегелю в Берлине выбьете золотом: «Вопрос о Гегеле давно решен»? А может быть, в соответствии с этим открытием снова сократите спецкурс по Гегелю впятеро, как это и было сделано на философском факультете МГУ в 48-м году? Или еще: напротив будущего памятника Ахматовой, за установление которого выступает «распустившаяся общественность», — поставите другой памятник, и что на нем напишете?
Или будете издавать А. А. Жданова с соответствующими купюрами?
Что тогда останется? Я прочел всё, что можно было прочесть у него о культуре: ведь и выйдет одна сплошная купюра. Как ее издать?
А ведь есть еще нечто, относящееся к «литературному наследию» А. А. Жданова, — тот самый список: он, А. А. Жданов, и был одним из тех, кто его составлял, а особенно реализовывал.
«В мае 1937 года секретарем Ленинградского обкома был тов. Жданов. Жданов собрал руководящих работников обкома и сообщил: в наших рядах, в ленинградской организации, раскрыли двух врагов — Чудова и Кадацкого... Мы ничего не могли сказать. Казалось, что примерз язык. Но когда окончилось это совещание и когда Жданов уходил из зала, я сказала ему: “Товарищ Жданов, Чудова я не знаю, он недавно в нашей ленинградской организации. Но за Кадацкого я ручаюсь. Он с 1913 г. член партии. Я его много лет знаю. Он честный член партии. Он боролся со всеми оппозициями. Это невероятно! Надо это проверить!” Жданов посмотрел на меня жестокими глазами и сказал: “Лазуркина, прекратите этот разговор, иначе вам будет плохо”. Но я никогда не думала, будет мне хорошо или плохо, когда я защищала правду».
Вскоре она и была арестована. Тюрьма, лагерь, ссылка — почти двадцать лет, но — выжила. А чаще всего поименный список тот вел прямо в безымянные могилы...
Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят
в забвенье утопить
Живую боль. И чтобы
волны
Над ней сомкнулись. Быль —
забыть!
Это Твардовский о таких, как Вы, пишет. А вот — о народе и о себе:
Но все, что было, не забыто,
Не
шито-крыто на миру.
Одна неправда нам
в убыток,
И только правда ко двору!
А я — не те уже годочки —
Не
вправе я себе отсрочки
Предоставлять.
Гора
бы с плеч —
Еще успеть без
проволочки
Немую боль в слова облечь...
Уже давно я заметил одну закономерность: люди Вашего склада почему-то очень активно не любят — прямо-таки ненавидят — Достоевского.
Я, конечно, не буду — здесь рассматривать вопрос о мировоззренческих противоречиях Достоевского. Скажу опять лишь о Вашем у р о в н е подхода к этому духовному явлению.
Вы пишете: «Печально, но факт: Достоевский был ренегатом, он изменил делу своей юности (скажем: сломался). Он не хотел строить будущее общество ценою слезы ребенка, но он не протестовал против потока слез, которые проливали в России дети голодных и запоротых крестьян, ссыльных, переселенцев, еврейской, татарской бедноты, польских каторжан».
Почему Вы забыли сказать, что Достоевский во время процесса над петрашевцами не только не предал ни одного человека, а всячески спасал, а когда их всех повели расстреливать, — не дрогнул, не отрекся и с гордостью заявил об этом на всю Россию уже в 70-х годах? Почему не сказали о том мужестве, с каким он провел 10 лет каторги, солдатчины, ссылки? Это — но подвиг?
«Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния... тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений». Это Достоевский — публично — заявил в 1873 году.
Тогда же, в ответ на «глупую сплетню» и «подлую клевету», будто Достоевский написал карикатуру на Чернышевского, заключенного в тюрьму, — он заявил: это — «низость, мне приписываемая», для этого «нужно иметь ум и поэтическое чутье Булгарина... Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого “несчастного”... Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально».
А «Подросток» в журнале Некрасова и Салтыкова-Щедрина — тоже «ренегатство»? А статья о Некрасове и речь на могиле поэта?
Ни одного из этих (и подобных) фактов Вы не привели. Стало быть, не обрадовались, не вдохновились ими? Не поставили себя на его место: сам бы выдержал хоть одну сотую долю того, что выдержал он?
Достоевский «не протестовал против потока слез»...
Такого я еще не читал никогда, ни у кого, нигде.
Это кто писал:
«Я не хочу мыслить и жить иначе как с верою, что все наши девяносто миллионов русских, или сколько их тогда будет, будут образованы и развиты, очеловечены и счастливы... С условием 10-й лишь части счастливцев я не хочу даже и цивилизации».
А это: «...мы, может быть, видим Шекспира. А он ездит в извозчиках, это, может быть, Рафаэль, а он в кузнецах, это актер, а он пашет землю. Неужели только маленькая верхушечка людей проявляется, а остальные гибнут (податное сословие для подготовки культурного слоя). Какой вековечный вопрос, и однако он во что бы ни стало должен быть разрешен».
Вот доминанта всего его творчества. Вот кредо, которому он ни разу не изменил. Ни разу.
И этот Достоевский — «не протестовал против потока слез»? А что такое картина из «Братьев Карамазовых», когда помещик затравливает собаками ребенка, затравливает на глазах матери, или сон Дмитрия о голодных матерях и детях — что это, как не гениальные и вечные образы вечного протеста?
И опять спрошу: а когда, где, как — Вы протестовали против потоков слез, которые на Ваших, на Ваших глазах лились, в Вашей стране, в Ваше время, слезы Вашего народа, слезы детей Вашего народа?
И Вы ему — Достоевскому — опять читаете «мораль»...
С Вами согласился бы один критик, когда он в 1934 году заявил: «...если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника».
Прочитав это, я первый раз в жизни испугался за Достоевского. Я первый раз в жизни был рад, счастлив, что он умер.
Но Ваш суд уже не страшен — он смешон.
Смешно читать Ваши выкрики, когда издано 30-томное Полное собрание сочинений писателя — шедевр академического издания, образец научных комментариев к нему. Вы прочли их? Или Ваши выкрики и есть Ваша рецензия на гигантский труд нескольких поколений наших ученых?
Вы пишете: «Над произведением Б. Можаева витает дух Федора Михайловича Достоевского, в первую очередь — “Бесов”. Фактически “Мужики и бабы” — попытка пересказать “Бесы” на новом историческом материале. Даже имена главных героев нарочито сближены: у Достоевского — Верховенский, у Можаева — Возвышаев».
И тут Вы совершенно правы. Вполне можно сказать: Возвышаев — это Верховенский времен коллективизации.
И в «Белых одеждах», и в «Детях Арбата», и в «Покаянии» Вы отыскиваете мотивы «Бесов». И Вы правы, правы. Вот еще несколько аргументов за эту Вашу правоту — самохарактеристики Петруши из черновиков к «Бесам»:
«Мне, собственно, до народа и до знания его нет никакого дела».
«В сущности, мне наплевать, меня решительно не интересует: свободны или несвободны крестьяне, хорошо или испорчено дело».
«Если б возможно было половину перевешать, я бы очень был рад, остальное пойдет в материал и составит новый народ».
Еще о народе: «На растопку...», «На растопку...», «Матерьал!», «Всех оседлать и поехать». «Если же не согласятся — опять резать их будут, и тем лучше».
А вот откровение Петруши из романа:
«Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. Этого вы не должны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых».
Но нот что писал один человек еще за восемь лет до «Бесов»:
«...теперь мы уже знаем, какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют ее эксплуатировать»5.
. Спрашивается: надо разоблачать негодяев от революции? Надо показывать самой глупости, что она — глупость и что ее — эксплуатируют негодяи?
При всей огромной разнице, при всей даже противоположности позиций Достоевского и Маркса, — в этом пункте есть поразительное сходство.
В 1873 году Достоевский так разъяснял свой замысел:
«Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном общество возможны — не Нечаев, а Нечаевы, и каким образом может случиться, что эти Нечаевы набирают себе под конец нечаевцев?.. “Я мошенник, а не социалист”, — говорит один Нечаев, положим, у меня в моем романе “Бесы”, но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней как на музыкальном инструменте».
Все это точь-в-точь относится и к можаевскому Возвышаеву и, скажем, к рыбаковскому Юрию Шароку, к дудинцевскому Саулу.
Повторяю: тут Вы правы. Только ведь Вы считаете это сходство самоубийственным для Можаева, Рыбакова, Дудинцева. Почему? Что тут плохого?
Возвышаев, Шарок, Саул похожи на Петрушу Верховенского? Похожи.
Были такие Верховенские? Были такие Возвышаевы, Шароки, Саулы? Были.
Надо их разоблачать? Надо с ними бороться? Надо.
Или — не было? Или — не надо?
Ну, так вот они, Можаев, Рыбаков, Дудинцев, — с ними и борются, и борются превосходно.
Вы хотите сказать, что в романе Достоевского есть такие вещи, с которыми мы никак не можем согласиться? Несомненно.
Надо их «отсечь» (по Вашему выражению)? Безусловно. Вот Можаев, Рыбаков, Дудинцев их и отсекают: они и показывают реальную силу, противостоящую Возвышаевым, Шарокам, Саулам.
Почему-то я, читая «Бесов», всегда восхищаюсь образом Петра Верховенского (то есть восхищаюсь тем, как беспощадно он разоблачается, Петруша), но на свой счет его не принимаю. Неужели Вы — принимаете? Странно.
Я попытаюсь доказан Вам, что Вы даже не представляете, насколько Вы правы в своем неприятии Достоевского. Вы его и должны не просто не любить, не просто бояться, а ненавидеть. За что? За то, что он раскусил Вас задолго до Вашего появления на свет. И отсюда же — Ваша болезненная страсть к нему.
Отчего сходят с ума, отчего мучаются герои Достоевского? Вот Иван Карамазов. Сам не убивал, только подсказал Смердякову: «Бога нет — все дозволено», а тот взял и убил. И вот Иван вдруг чувствует себя действительно «главным убивцем». Или Алеша. Отец Зосима посылает его «в мир», чтобы предотвратить преступление, предупредить кровопролитие, спасти братьев. Алеша не сделал этого. И? И — чувствует себя еще более виноватым, чем Иван, — в полном соответствии с тем, что ему, Алеше, говорил Зосима: «... и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть не совершил бы его при свете твоем...» И более того. Оказывается, по Достоевскому: «Воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать». — Совесть не даст покоя. Совесть — кричит.
Спрашивается: Вам-то это все зачем? Ведь эдак всю жизнь будешь чувствовать себя виноватым. И вы превосходно отделываетесь от совести: «самокопанье», «абстрактный гуманизм»... А Ваш «конкретный гуманизм» — без совести?..
Ваше неприятие Достоевского — не что иное, как трусость разобраться в своих истинных мотивах, и страх перед тем, что в них разберутся другие.
Зачем Вам такой Достоевский:
«Во мне много есть недостатков и много пороков. Я оплакиваю их, особенно некоторые, и желал бы, чтоб на совести моей было легче. Но чтоб я вилял, чтобы Федор Достоевский сделал что-нибудь из выгоды или из самолюбия — никогда Вы этого не докажете и факта такого не представите... С гордостью повторю это... Направление! Мое направление то, за которое не дают чинов».
Зачем Вам и такое:
«Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из-за нес, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее».
Зачем Вам — такая высота:
«О том, что литературе (в наше время) надо высоко держать знамя чести. Представить себе, что бы было, если б Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными? Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились. Скажут: “если уж эти, то... и т. д.”
То же и наука...»
И все-таки Вы все возвращаетесь и возвращаетесь к Достоевскому, как его герой в квартиру процентщицы, все дергаете и дергаете за звонок. Со сладострастием отыскиваете грехи гения, чтобы низвести его до себя.
В «Преступлении и наказании» Порфирий Петрович, следователь, спрашивает Раскольникова:
— А сюрпризик-то не хотите разно посмотреть?
— Какой сюрпризик? что такое?
Надо сказать, что Вы тоже заготовили хороший сюрпризик.
Вы приводите такую цитату из Достоевского о Чернышевском и Добролюбове: «И те пердуны». И изящно добавляете: «извините»...
Ах, какая деликатность! Какое обхождение! За ярлык — с Гитлером и белофиннами не извинялись ни перед Можаевым, ни перед читателями, а тут — извольте признать утонченность Вашей души... «Извините».
Только нет уж, тут-то и особенно не извиню. И Вы сами прекрасно знаете — почему.
Вы прекрасно знаете, откуда, у кого Вы их взяли, эти слова.
Вы прекрасно знаете, какую операцию над ними проделали.
Вы взяли их из черновиков к «Бесам». Взяли у Петра Верховенского. По замыслу писателя, этот негодяй и должен был их произносить.
Вот контекст этих слов. Достоевский набрасывает диалог между Степаном Трофимовичем и Петром Верховенским.
Степан Трофимович — Петруше:
— Ты даже не имеешь извинения в утопии, как Ч<ернышевски>й, Д<обролюбо>в.
А Петруша ему в ответ:
— И те пердуны. Мы последние и самые лучшие6.
Петруша, Петруша это, а не Достоевский!
Что Вы делаете с цитатой?
Фразу «Мы последние и самые лучшие» Вы предусмотрительно отбрасываете и правильно, правильно! Значит, все-таки чуть-чуть понимаете Достоевского, понимаете, по крайней мере, что не мог он такое сказать о себе: «Мы последние и самые лучшие».
Зато Вы оставляете фразу первую, берете эту пакость, берете слова этого негодяя и — приписываете их самому Достоевскому!
Достоевский устами... Петруши.
Как все же называются такие вещи? Похоже, Вы поставили здесь настоящий рекорд неразборчивости средств. Подсунуть Достоевскому убеждения Нечаева-Петруши (а Можаеву — Гитлера) — такого еще действительно не бывало и уже, вероятно, не будет. Но кто бы мог с Вами хотя бы сравниться? Не вижу никого, кроме героев самого Достоевского. Такими ведь средствами именно Петруша и пользуется, когда выдает свой «листок» за шатовский (в чисто провокаторских целях), или вон еще Лужин, когда подсовывает свою «красненькую» в карман Сонечке, чтобы уличить ее в воровстве.
И после всего этого Вы еще осмеливаетесь писать: «Извините».
Извините, дескать, меня за то, что мне, такому деликатному, интеллигентному и научному, приходится цитировать такие грубые, неприличные, такие циничные и ренегатские слова такого циника, реакционера и ренегата, как Достоевский. О, те слова режут мне ухо, оскорбляют мой тонкий слух. Но все равно, мол, приходится ради истины, ради того, чтобы раскрыть всем глаза на Достоевского (и на Можаева), приходится их цитировать. Ужасно...
Нет, великолепно. Действительно, великолепно разыгранная сценка! Как говорится в булгаковском романе: «Королева в восхищении!»...
Так что сюрпризик с этими — как их? на букву «п»? — сюрпризик с ними у Вас не получился. Получились опять и опять грабли, то есть получилось то, что всегда получается, когда на них наступают (извините).
В одной из Ваших статей я прочитал, что Вы являетесь поборником не только гуманизации образования и культуры (с этой Вашей «слабостью» мы уже достаточно познакомились), но и всеобщей и полной компьютеризации. Вот это меня сначала страшно поразило.
Дело в том, что меня давным-давно мучает одна наивнейшая проблема, которую Вы (невольно, конечно) так обострили.
Вот человек лжет, фальсифицирует, клевещет. Вот он списывает, выдает чужое за спое. Вот он написал несколько лет назад такое, что сегодня с радостью бы скрыл, и т. п. На что он рассчитывает?
Неужели из всей истории, из миллионов (наверное, даже миллиардов) примеров не ясно, что все равно, все равно — рано или поздно — все тайное станет явным, все швы наружу выйдут? А он все равно за свое. Почему? А если б достоверно знал, что непременно попадется?
Может быть, дело еще и в чрезвычайно низком уровне культуры и (как следствие этого) в нищете воображения? В неспособности хоть чуть-чуть заглянуть за стены отведенного человеку времени?
Нить я не потерял. Не догадываетесь, к чему клоню? К тому, что Ваш — именно Ваш! — призыв к всеобщей и полной компьютеризации крайне опрометчив. Вам недостает воображения. Знаете, что такое всеобщая и полная компьютеризация? Это еще и общедоступная и мгновенная информация о квалифицированности и неквалифицированности, скажем, занимающегося наукой человека, информация о его честности или бесчестии. Перед ней, перед всеобщей компьютеризацией, мы ведь все, то есть все пишущие и печатающиеся, окажемся на виду у всех. Сразу станет видно: кто есть кто и что есть что. Она может оказаться технологической предпосылкой беспрецедентного повышения уровня совести общечеловеческой. Это — всемирный банк памяти, памяти не просто о нейтральных фактах, но и о поступках наших.
Вот нужна справка для написания очерка жизни и творчества М, для издания полного собрания его сочинений за 50 лет. Запрашиваем. В 37-м — написал компрометирующее письмо на одного своего коллегу (коллеге это стоило 18 лет, вычеркнутых из жизни), в 40-х — начале 50-х боролся с космополитизмом, с менделизмом-морганизмом, с кибернетикой, в конце 50-х — начале 60-х — воевал (глохнущим поддакиванием) с «культом личности», в 60-х, 70-х, начале 80-х исправно вычеркивал причину и даже дату смерти тех, кто от этого «культа» и пострадал, сейчас опять воюет за перестройку и опять все более глохнущим поддакиванием. Что касается ПСС, то набирается около 60 (!) томов, но (сообщает компьютер) в них содержится нулевая или минусная (то есть искаженная) информация. В последний момент выясняется: автор сам, без помощи всяких компьютеров, решает от ПСС отказаться. Почему — не объяснил. Из скромности? А не потому ли, что даже на один абзац за 50 лет ни одной мысли собственной и новой не отыскалось?..
Картинка, конечно, утопическая, а вдруг реальная? И может быть, человек теперь трижды призадумается, прежде чем что-то сказать, написать, сделать, если будет он достоверно знать, что всякий поступок его публичный записывается навечно и информация эта становится мгновенно доступной каждому.
Ну, например, читаю я Ваше письмо о Можаеве. Нажимаю кнопочку персонального компьютера, соединяюсь с центральным банком информации. Выясняю: а, это тот самый автор, который еще тридцать лет назад о Дудинцеве писал (оказывается, еще и о других, и все так же). Понятно. Высказывается об экономике деревни. Не иначе как крупный экономист? Запрашиваю. Ответ: Аганбегян есть, Заславская есть, Шмелев появился, а Вас — нет. Тогда запрашиваю о существе Ваших аграрных тезисов. Ответ: тоже несут даже не столько нулевую, сколько отрицательную информацию, встречались за последние 30 лет 3 млрд. раз. А как с Достоевским? Как с точным цитированием? Машина несет околесицу, а когда я вторично запрашиваю цитату со словом на букву «п», она выстреливает серию неприличных слов почти на все буквы алфавита и обиженно прекращает разговор... Но так или иначе, я затратил бы на постижение Вашего письма в сто раз меньше времени, чем затратил без машины.
Отсюда у меня один вопрос и одна гипотеза.
Вопрос: всякий ли человек захочет, чтобы информация о его социально значимых поступках попала и центральный банк?
Гипотеза: дела со всеобщей и полной компьютеризацией будут идти у нас со скрипом еще и по той причине, что далеко не все захотят быть компьютеризированными (а чтобы не попасть в центральный банк независимо от своей воли, не захотят и самой компьютеризации).
Вернемся к главному пункту Вашего письма. Перечитаем:
«Ведь это Гитлер считал Ленинград городом искусственным и думал его задушить, опустошить (быть пусту!) и утопить! Какая странная компания: реакционные попы, славянофилы, Гитлер, белофинны... Надо ли попадать в такую компанию?»
Где, когда это происходит? В «Покаянии»? Это ведь там человек обвиняется (и признается) в том, что он по заданию какой-то разведки, чуть ли тоже не белофинской, рыл секретный канал из Бомбея в Лондон (под Россией).
Неужели Вы и в самом деле не отдаете себе отчет в том, что такое письмо в 37-м году стоило бы человеку жизни, а в 46-м, да и в 56-м — отлучения от литературы (и то в лучшем случае)?
Но в 87-м году — уж извините-с, как говаривали в старину, — отвечать за такие письма придется уже самим их авторам, отвечать придется не тем, кого оклеветали (как бывало слишком часто), а тем, кто оклеветал (как будет, хочется верить, отныне и навсегда).
Вас подвел старый расчет, старая привычка злую шутку сыграла: никто, мол, не посмеет, никто не успеет разобраться, а ярлык прилипнет, не оторвешь. Конечно, кого тут оторопь но возьмет? Да и стал бы кто-нибудь разбираться в том же 37-м году в таких тонкостях, как неточное цитирование, когда дан лозунг дальнейшего неуклонного обострения классовой борьбы? А если б и стал, кто бы этому поверил, кто бы это проверил и к чему бы это привело?
Но сейчас-то, сейчас — другие времена, другие погоды, а Вы все еще старыми приемами действуете. Вот Ваш главный просчет.
Более чем убежден: Вам придется взять свои слова обратно.
Но вот вопрос: интересно, как Вы их объясните? Чем? Своей сверхлюбовью к народу? Сверхпринципиальностью? Сверхбдительностью? Ну, не легкомыслием же, торопливостью или невежеством? В таких-то делах, в таких-то званиях, в таких-то чинах. Ведь такое признание здесь самоотставке равно, импичменту добровольному.
Скажете — помрачение нашло? бред? горячка?
И тут Вас предусмотрел Достоевский. Помните Порфирия Петровича:
— Да зачем же, батюшка, в болезни-то да в бреду все такие именно грезы мерещутся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие-с? Так ли?..
Или поступите, как Лужин из того же «Преступления и наказания»:
«Видя, что уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости:
— Позвольте, господа, позвольте: не теснитесь, дайте пройти! — говорил он, пробираясь сквозь толпу, — и сделайте одолжение, не угрожайте: уверяю вас, что ничего не будет, ничего не сделаете, не робкого десятка-с, а, напротив, вы же, господа, ответите... В суде не так слепы, и... не пьяны-с, и не поверят... отъявленным безбожникам, возмутителям и вольнодумцам...»
Вот так и Вы: меня, мол, оклеветали, и если кто поверит этой клевете, то это будет на руку нашим врагам, рухнут основы...
Конечно, рухнут. Уже рушатся. Ваши, Ваши основы.
За тридцать с лишним лет Вы не упустили ни одного шанса — сорвать попытки обновления страны, зато не воспользовались ни одним, чтобы их — поддержать.
(Надеюсь, читатель не забыл, что мой Инкогнито — это не одни конкретный человек, а тип социальный.)
Хотя бы один-единственный благородный, самоотверженный порыв, поступок: эх, будь что будет, а я хоть раз, да все скажу, что наболело...
И намека нет. А почему? Да потому, что ничего и не наболело, ничего и не болело. Точнее: все боли, все страхи — только за себя, только за свое. Откуда же тут взяться порыву? Вместо порыва — с вожделением расставить капканы и ждать-выжидать в засаде, пока кто-то в них попадется, ошибется, и — разоблачить! Разоблачить, чтобы — угробить главное дело. А если не случится ошибки, то — придумать ее, приписать, и все-таки — разоблачить! И в этом все Ваше геройство — на совестливых людей капканы ставить и облавы на них устраивать...
И все-таки, повторяю, письмо Ваше меня чрезвычайно обрадовало.
Понимаете: когда всерьез ищешь истину, решаешь научную проблему, когда думаешь над сильной, неподдающейся новой мыслью, над вдохновенной гипотезой, всегда лучше иметь оппонента, возможно более серьезного, едкого, сильного, даже беспощадного, оппонента как можно умнее.
Но если приходится истину защищать, истину сверхочевидную, то, уж конечно, хочется иметь оппонента послабее да и посмешнее.
И все же о таком, как Вы, я не смел и мечтать.
Понимаете: если прислушаться, то во всем Вашем стиле, в языке, в самóм Вашем грозном тоне, во всех Ваших анафемах давно уже слышится какая-то непоправимая неуверенность, вялость, которую не может скрыть никакая наигранная «принципиальность», «непримиримость», «верность основам». Вместо энтузиазма искренней ошибки, вместо страсти воинствующего невежества, вместо страшной воли побеждающего зла — почти машинальное вранье, усталое и растерянное. Все слова Ваши уже выдохлись, поскучнели, одряхлели, И чем они грознее, тем смешнее. — Знак долгожданный...
Вы обнажили внутреннее бессилие всего того дела, которое защищаете.
Вы тем самым подтверждаете внутреннюю силу и перспективность того дела, которое ни понять, ни принять вы не хотите, да уже и не можете.
Это дело по праву названо сегодня — революцией.
И уже многие люди (их становится все больше) могут, преодолевая скептицизм, равнодушие, усталость, суетность, — могут наконец-то снова сказать с чистой совестью и — говорят:
Это действительно революция. И это — м о я ре в о л ю ц и я. Стало быть, и от меня зависит. Не только и не столько надо ждать помощи от нее, сколько — самому помогать ей. Не просить о ее приходе, а идти ей навстречу. Мы дождались ее начала — значит, ее и надо делать самому, на своем месте, в своем деле. Исчезает, наконец, невыносимое, противоестественное, обессиливающее раздвоение между тем, что твердо знаешь сам, что видишь вокруг своими глазами, о чем думаешь про себя, и тем, что слышишь «сверху», что читаешь в газетах, что талдычит тебе невежественный указчик, чем пугает тебя твой собственный внутренний цензор. И самое, самое главное теперь, решающее — это моя ответственность, моя смелость, а еще больше, оказывается, мой «ликбез» — и в социализме, и в демократии, и в истории, и в политике, а особенно — в экономике и праве... Оглянемся назад, вглядимся в прошлое (оно ведь в нас и сегодня), но не для самоуничижения или самовосхваления, а для честного труда самопознания, чтобы выработать, наконец, трезвое, адекватное самосознание: кто мы есть, чтó можем, чтó должны сделать. Не забыв ни одного поражения, не забудем и ни одной победы (и цену каждой победы — не забудем). Назовем все вещи своими именами: ошибки — ошибками, преступления — преступлениями, подвиги — подвигами... Предстоит и началась уже небывалая мобилизация всех сил народных для небывалой перестройки всей нашей жизни. И не к нам ли особенно относятся слова Герцена: «У вас не будет последователей, пока вы не научитесь переменять кровь в жилах»... Гласность должна вести и привести к согласию, к согласию по главным, первоочередным вопросам — чтó делать, но она оставляет постоянно открытыми вопросы — как делать, как лучше делать то, чего нельзя не делать... Теперь есть только один счет, по пословице: «ищи не в селе — ищи в себе», а если случится беда, то — тем более: винить уже больше будет некого, кроме самих себя. Виноваты будут уже не противники обновления, а его сторонники, не столько «они», сколько мы сами. Другой такой шанс исторический не повторится, не подарится нам никем. История прошлого — необратима. Но живая история зависит от нас. Живая история не роман: пишется без черновиков и не знает переизданий, зато альтернативна, зато дает реальный, животрепещущий, неотложный выбор, зато всегда — развилка дорог. А сегодня этот выбор, как никогда, жесток. Сегодня эта развилка не между «хорошим» и «лучшим», не просто между «хорошим» и «плохим», а между — быть или не быть: стране нашей, миру всему... Но сколько вдруг открывается твоих единомышленников (самых разных профессий) и как радостно (а часто и с горечью) они — с полуслова — узнают друг друга, находят общий язык. берутся за общее дело и, кажется, уже без всякого прекраснодушия, без иллюзий, трезво, не «на авось», а в расчете на очень долгий, очень сложный, очень тяжелый, но, главное, — вдохновенный, совестливый труд. По всей стране слышится сегодня — нарастает — живой гул этих мыслей, тревог, надежд.
Будь я студентом, учеником, а Вы — моим наставником, учителем, и узнай я про Вас все то, что знаю, — я бы не поверил Вам больше ни в чем, ни единому Вашему слову. Даже какая-нибудь формула химическая казалась бы в Ваших устах ложью. Даже в любую аксиому, даже в дважды два четыре, в запятую даже не поверил бы...
Но я давно уже не студент, а потому не верю Вам — еще больше, еще сильнее (насколько это возможно), хотя и понимаю: за всеми Вашими обманами есть, конечно, еще и самообман как нечто первичное, но и он, кажется, уже почти весь выветрился.
Мне и хотелось бы развеять одну Вашу примитивную и очень смешную иллюзию. Вам ведь до сих пор кажется, а может быть, Вы даже и уверены, будто Вы как бы невидимы, ненаблюдаемы, то есть невидимы, ненаблюдаемы все Ваши истинные мотивы. Ваши истинные цели. Вы их за рыбок золотых выдаете и думаете, будто все их таковыми и воспринимают, и — верят Вам, и — восхищаются Вами. Вот тут-то Вы и ошибаетесь. Уже давным-давно ясно, что никакие это не рыбки золотые, а мысли-каракатицы, мысли-осьминоги: наблюдаешь за ними, а они (как в аквариуме) и не догадываются, что — видны, что за ними наблюдают, что их исследуют. Видеть это и в самом деле смешно, но иногда и страшновато (за человеческую природу страшновато).
Вы за социальный подход? Вот Вам социальный подход.
Я убежден: народ, именем которого Вы клянетесь на каждом шагу, Вы на самом деле презираете. Не знаете — за что? Знаете. Но и другие — знают.
Вы презираете его именно за то, что он Вас еще не раскусил, за то, что он еще позволяет Вам кормиться за его счет. Он Вас — хлебом. Вы его — ложью. А когда этот самый народ Вас раскусит, Вы ведь перепугаетесь и возненавидите его. А он? Удивится? Вряд ли. Он о Вашем существовании и сам прекрасно знает, только, может быть, Вас лично еще не опознал.
И после всего этого Вы еще смеете выступать от имени народа. Смеете говорить о своей любви к нему. Не пришло ли время — перед ним отчитаться? Что Вы все о «массовом героизме» — расскажите-ка о своем собственном.
А на каком убогом языке Вы говорите с народом! «Язык — народ» (Достоевский). И одно только Ваше отношение к русскому языку выдает все Ваше отношение и к народу. Вы его не понимаете, не любите, ломаете — язык русский. Вы со словами русскими делаете то же самое, что Возвышаевы — с людьми. Вы и слова все живые — тоже «раскулачили». Ну, перечитайте, перечитайте еще раз, на каком языке Вы лжете народу, Вы, якобы народный интеллигент:
«Борьба идет не без сопротивления, не без отдельных неудач, не без временных разочарований у отдельных новаторов... У нас не изжиты еще пережитки прошлого во взаимоотношениях отдельных людей».
Повторяю, Вы прекрасно знаете, что на самом деле речь шла о настоящем погроме передовых ученых. Вот классический образец фразы, которая насквозь, прямо-таки физически пропитана лицемерием: сочится из каждой поры... Язык — он все выдаст...
Вы не просто аплодировали травле истинно народной интеллигенции. Вы с энтузиазмом участвовали в этой травле, в травле именно за ту правду, которую эта интеллигенция несет народу.
И после всего этого Вы смеете говорить:
«Интеллигенция должна идти вместе с народом, не покидать его в трудную годину, изживать вместе с народом унаследованные недостатки развития... Подлинный российский интеллигент должен в первую очередь думать о судьбах народа, а не о своей личной судьбе».
Все великие цели, которые Вы провозглашаете, давно стали для Вас лишь средством для достижения целей собственных (каких — сами знаете).
Но вот когда раскусывают таких, как Вы, они вдруг почему-то мгновенно становятся самыми что ни есть «абстрактными гуманистами» и начинают говорить чуть ли не на чисто религиозном языке, чуть ли не «христарадничать» начинают. И чего ради? Ради самой банальной выгоды, местечка, чина (даже на самолюбие наплевать). Вот и весь «бином Ньютона». И так всю жизнь.
Жалко? Говоря «абстрактно гуманистически» — да. Надо же было исхитриться так себя угробить.
Но как только подумаешь, представишь, сколько с помощью таких, как Вы, погублено честных талантливых людей, сколько юношей развращено, сколько истин обезображено, какая тут может быть жалость?
Вся эта история напомнила мне молодость. В 53–54-х годах мы, несколько аспирантов философского факультета МГУ (Л. Филиппов, ныне покойный, человек на редкость светлый и талантливый, Е. Плимак, И. Пантин и я), наткнулись вдруг на такой факт. Труды наших научных руководителей оказались сплошь построены на плагиате и фальсификации, а докторская диссертация одного была даже предусмотрительно изъята автором из библиотек. Мы говорили, писали об этом (позже это попало и в центральную печать). В чем только нас ни обвиняли! На какую только «мельницу» ни лили мы воду, чьим интересам «объективно» ни служили, кому только «на руку» ни играли. А однажды один из этих научных руководителей сказал мне мечтательно и шепотом: «Выступи вы годом-двумя раньше, быть бы вам лагерной пылью» (оказалось потом, что и на этот счет — на счет доносов — был у него большой опыт)...
Так вот и сказал. Буквально. Учитель — ученику...
Очень много дал нам этот урок. На всю жизнь я его запомнил. Холодом трупным повеяло. Но на всю жизнь запомнил и трусливую измятость того лица, и пальцы дрожащие, когда он лихорадочно листал нашу работу о них, и пот на лбу, и глаза эти, всегда водянистые и бегающие, а тут вдруг на мгновение застывшие, заледеневшие, запомнил и эту мечтательность, и этот зловещий шипящий шепот. (И сейчас, как вчера, помню, 33-х лет как не бывало.)
С того момента всякий раз, когда видишь, угадываешь ту мечту, когда слышишь, чувствуешь тот шепот, — обжигает вдруг какое-то веселое, отчаянное и холодное бешенство, которому, однако, нельзя давать воли. Его все равно надо, надо сдержать, сдержать, преодолеть и обязательно переключить, превратить в работу. Отрицанием одним никого, ничего не победишь, даже отрицанием сверхочевидной мерзости. Спасает, побеждает только работа, одна работа, положительная, созидательная, пахотная, сеятельная...
И еще об одном эпизоде из тех лет.
Как-то раз обсуждался наш доклад (о Радищеве, о его «Путешествии»). Зал был набит до отказа. Мы наивно думали, что наших оппонентов, как и нас, интересует исключительно положительное решение проблемы. Мы радостно доложили, что наметку такого решения отыскали у Г. Гуковского. Потом выступил одни из наших научных руководителей, тот самый, который почему-то не пожелал, чтобы его достижения, изложенные в докторской диссертации, стали всеобщим достоянием. Он начал так:
— А знаете ли вы, кого вы взяли себе и поводыри? Знаете ли вы, что это буржуазный объективист, безродный космополит, раскритикованный в советской печати...
Это мы всё знали, но нас этим было уже не взять. Мы смеялись, зал смеялся. Но вот что было дальше:
— Вы даже не потрудились узнать, кто такой Гуковский. Это не только буржуазный объективист, не только безродный космополит. Это, как и следовало ожидать, — враг народа, осужденный и изолированный нашими органами...
Этого мы не знали. Смех — пропал. Трусости не было, но страшно было очень. В зале стало тихо и становилось все тише и тише. И в этой нарастающей тишине нарастал и обвиняющий торжествующий издевательский голос оратора, нарастал и властвовал — безраздельно. Все сидели как убитые. Вдруг я получил записку от одной бывшей нашей студентки. Машинально развернул. Тупо прочел. Еще и еще раз. Долго не мог ничего понять: «Я только что из Ленинграда. Гуковский полностью реабилитирован»... (Тогда это слово — реабилитация — становилось, но еще не стало главным, как нынче — гласность.) Наконец дошло. Я встал и медленно, скованно пошел к кафедре. Оратор почему-то замолчал. Стало уже совсем, невыносимо, тихо. Я прочитал записку вслух и добавил срывающимся (как мне потом рассказывали) голосом: «Это вы, вы — его...»
Страшная но славная была минута.
Мы еще не догадывались, сколько в нее отлилось прежних лет и — каких, сколько из нес вырастет лет новых.
По правде сказать (я это и сам только вот сейчас до конца понял), я совсем не к Вам — внутренне — адресуюсь, а к тем юным людям, которые по Вашим поступкам станут судить обо всем нашем поколении. Гордость вдруг за свое поколение вспыхнула. Оно себя еще далеко не исчерпало.
Мы усваиваем наконец главный урок всей истории, а нашей особенно: не постой за волосок — головы не станет.
Чего я хочу? То есть чего я хочу добиться этим письмом?
Ну, не счеты же с Вами сводить. Право, мне совсем было не до Вас, когда я получил Ваше письмо. Свои бы долги успеть заплатить.
Счеты сводить — Ваша профессия, Ваше призвание, именины Вашего сердца. Хочу лишь одного, самого простого, самого малого: не желаете, не можете работать сами — не мешайте работать другим.
Хочу не больше этого, но и не меньше (представляю: чего бы Вы захотели, будь на то Ваша воля и власть).
Не написали бы Вы свое письмо — с чего бы я стал писать свое? Да ни за что.
Надеюсь, Вы теперь до конца поняли смысл заголовка этого письма?
И вот самый последний к Вам вопрос: а как Вы относитесь к гласности? Будем предельно конкретными. Я, например, обеими руками голосую за публикацию письма Вашего. А вы за мое — проголосуете?
Не забудьте только о том подростке из «Покаяния», который ведь не хотел, не мог, не должен был ненавидеть родителей своих, который должен, должен был любить, верить, жить, но который все-таки снял со стены ружье и застрелился. А кто виноват?
Для меня главная мысль-адрес этого фильма (я хочу, чтобы и моего письма) такова:
Дорогие наши, вот жестокая, страшная правда, которую Вам надо знать и которую от Вас слишком долго скрывали. Но не впадайте ни в цинизм (слишком банально), ни в отчаяние (слишком уж дорого), ни в озлобление (слишком уж бесплодно). Не стоит. Нельзя, нельзя. Надо выстоять и запастись силами, силами красивыми, добрыми, умными. Прочитайте, перечитайте слова совсем еще молодого Достоевского, написанные в день его смертной казни н в день се отмены:
«Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты...
Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения н теперь еще раз живу!..
Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало и заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как ни дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Si jenesse savait!7 Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое...
Теперь уже лишения мне нипочем, и потому не пугайся, что меня убьет какая-нибудь материальная тягость. Этого быть не может. Ах! кабы здоровье!..»
Вспомним еще и никогда уже не забудем и о другом: о тех незаконных смертных казнях, которые отменены не были. Вспомним и потрудимся над созданием того, о чем мечтали все лучшие люди народа нашего, над созданием «будущей России честных людей» (Достоевский). А ближайшая будущая Россия — это ее сегодняшние юноши и подростки. Какими они сделаются (сделают себя), какими создадутся (создадут себя) — такой сделается, создастся и Россия.
Р. S. Я вычитывал верстку письма и все думал: пока человек жив не заказан для него поворот к правде, и, вопреки всему, его надо ждать, такого поворота...
Вдруг узнаю: Вы только что сочинили и отправили (еще не забрали обратно?) новую эпистолу, в которой требуете самого сурового возмездия (вплоть до «оргвыводов») человеку, осмелившемуся по-своему (хотя, может быть, и спорно) размышлять о путях перестройки.
Опять — засада. Опять — наветы. Опять ищете Вы, кого бы из своих выставить «на ту сторону баррикады», как бы взять Вам реванш за свой страх перед обновлением. Выходит, даже пословица «старому врать, что богатому красть», — не для Вас.
Я неверующий, но почему-то пó сердцу мне заповедь предков: согрешил — покайся. И как обнадеживает достоинство тех людей, которые ошибаются в поисках истины и — первыми признают ошибку, как только в ней убедились, признают — искренне, открыто, красиво (потому что заняты не собой, а делом, работой). Но что же это за взрыв такой мутационный произошел в Ваших генах духовных, если Вы исповедуете: греши и — не кайся! и чем больше грешишь — тем больше и не кайся!..
Наверное, тут все дело в том или ином отношении к двум древним и вечным истинам.
Первая: смертны же мы все.
Вторая: и после нас будут люди.
С чем придем мы к своему последнему часу?
И чтó скажут нам вслед?
А времени у нашего с Вами поколения остается совсем уже мало.
ИЗ «ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ХРОНИКИ»
КАМПУЧИИ
Предисловие, необходимое для современного
читателя (от составителя)
В апреле 1975 г. после пятилетней гражданской войны отряды красных кхмеров (военизированные структуры коммунистической партии Камбоджи) взяли под свой контроль столицу Камбоджи Пномпень.
Под руководством генерального секретаря партии Пол Пота (настоящее имя Салот Сар. Но с 1965 году он взял партийную кличку - от первых двух слогов французского словосочетания politique potentielle- могучий политик.) красные кхмеры начали претворять в жизнь утопическую идею создания общества, состоящего исключительно из трудолюбивых крестьян; общества, полностью независимого от внешних сил.
Идеология кампучийских коммунистов представляла собой смесь марксизма, маоизма и антиколониализма. В рядах полпотовцев воевало большое число подростков, ещё толком не знавших жизни, но в тренировочных лагерях уже обученных убивать. Они были буквально одержимы внушёнными им идеями беспощадной борьбы с врагами страны и простого народа.
Сразу же после захвата Пномпеня началось принудительное переселение почти двухмиллионного населения столицы в расположенные в сельской местности особые лагеря для т. н. “трудового воспитания”. Та же участь постигла население других городов страны. Людей заставляли работать по двенадцать часов в день без перерывов, с жестким нормированием пищи, в ужасающих санитарных условиях. Как следствие — люди умирали от голода, изнурения и болезней. Были созданы сельские коммуны, где все были обязаны проживать не по семейному принципу, а по принципу общины – спать и есть только одновременно и только совместно, еду готовить и есть только из общего котла и строго по ограниченным нормам потребления, утверждённым властями. За невыполнение трудовой нормы, за несоблюдение порядка коммунального быта, за сокрытие риса в личную пользу, за обнаруженное личное имущество, не сданное в коммуну, за отдых в неположенное время, – в лучшем случае физическое наказание, а в худшем – тюрьма, что на деле равнялось смертному приговору. Так строился свой специфический кхмерский социализм. Через несколько месяцев крупные города, в том числе и столица, обезлюдели, и Пол Пот объявил, что отныне кхмерскому народу города для проживания вообще не нужны.
Красные кхмеры вели безжалостную борьбу с “пережитками” прошлого: закрывались школы, больницы, фабрики. Была отменена денежная система, все религии были запрещены, вся частная собственность — конфискована. Началось планомерное уничтожение членов религиозных общин, интеллигенции, торговцев, бывших чиновников, а также всех, кто высказывал хоть малейшее несогласие с политикой красных кхмеров.
За три с половиной года правления красных кхмеров было уничтожено около 3 миллионов камбоджийцев (по другим оценкам около 2 миллионов), что составляет 1/5 всего тогдашнего населения страны. Из них свыше четверти миллиона были казнены как враги государства. Остальные погибли в лагерях и тюрьмах.
Такое количество жертв в процентном отношении к численности населения ещё не пожинала ни одна революция XX века. Отвечая на обвинения своих бывших соратников, Пол Пот говорил: «Я осуществлял классовую борьбу, а не убийства. Вы же сами видите меня, разве я похож на жестокого человека?... Мы были первопроходцами азиатского социализма, поэтому допускали ошибки… мы были словно неопытные дети…».
Пол Пот создал боевое крыло партии – вооружённые отряды боевиков. Ему нравились конспиративные ритуалы, секретные явки, пароли, клички, секретные аббревиатуры, значение которых мог понимать только узкий круг его товарищей. Он впервые опробовал политику физического геноцида в концлагерях и спецтюрьмах, распространённую чуть позже на всё население страны. Одной из самых печально знаменитых стала Пном Пеньская секретная спецтюрьма S-21, расположившаяся в помещениях ликвидированной высшей школы Туол Сленг. Существовала особая доктрина перевоспитания нетрудовых элементов – физические истязания и пытки, провозглашённые на высшем партийном уровне действенным орудием оздоровления нации и излечения её от тлетворного буржуазного влияния. Специальной колодкой за ноги в лежачем положении сковывалось одновременно в помещении одной комнаты по 30-40 человек, которые должны были в неподвижной позе проводить сутками. Провинившиеся помещались в комнату площадью 40-50 кв. см, где стоя проводили по несколько дней. Практически все периодически подвергались специальным наказаниям – пыткам водой, помещением конечностей под прессы и т.д., для которых использовались нехитрые приспособления. Тех, кого признавали «безнадёжными к исправлению» - просто расстреливали тут же на глазах остальных, трупы наскоро закапывали во дворе.
Тюрьма имела 3 подразделения: политический отдел, спецотдел для пыток и убийств и карцерный отдел. Штат обслуживающего персонала формировался из подростков, происходивших из семей самих заключенных. Офис тюрьмы скрупулёзно вёл документацию о каждом заключённом, в делах которых хранились сводки об их поведении, рапорты надсмотрщиков, фотографии, письменные признания и раскаяния арестантов, их клятвы об исправлении, отчёты о пытках и казнях.
В декабре 1978 г. подразделения вьетнамской армии вторглись в Камбоджу, и в январе 1979 г. режим Пол Пота был свергнут. Вьетнамские войска обнаружили Пном Пень буквально пустынным местом. Остатки кхмерских отрядов отошли в приграничные районы на север страны, где продолжили партизанскую войну. Пол Пот на вертолёте спасался бегством в джунгли.
В 80-х годах красные кхмеры продолжали вести партизанскую войну против провьетнамского правительства, пользуясь щедрой финансовой и военной поддержкой, как Китая. В 1989 г. вьетнамский военный контингент покинул Кампучию, а в 1991 г. соперничающие группировки подписали мирный договор. Часть отрядов красных кхмеров позднее сдалась властям и получила амнистию. Бывшие соратники провели показательный суд над Пол Потом и поместили его под домашний арест. Пол Пот впал в безумие . В апреле следующего года Пол Пот скончался.
17 апреля 1998 года в Камбодже, в 500 метрах от границы с Тайландом практически без свидетелей несколько человек в полевой униформе проводили кремацию тела 73-летнего человека, умершего накануне от рака. Тело жгли в неприспособленных условиях прямо в джунглях вместе с кучами мусора. Так окончил свои дни один из самых страшных в новейшей мировой истории диктатор Пол Пот.
Послесловие автора
Сейчас 1988 год, но когда очерк «Зачем хроникер в “Бесах”?» вышел в 81-м ( в четвертом номере журнала «Литературное обозрение – И.З.»), ни о какой открытой критике сталинщины не могло быть и речи (мне и в 84-м в «Литературке» вырезали упоминание о XX съезде). Поэтому я вынужден был как бы растворить эту критику в тексте, однако совершенно сознательно расставил несколько ее знаков. Полпотовская Кампучия называлась там опустелым домом. Я имел в виду, что именно так о нашем доме в дни сталинщины сказала А. А. Ахматова и под таким же названием вышла сначала «Повесть о 37-м годе» Л. К. Чуковской — «Софья Петровна». Но главное не в этом. Очутившись в Кампучии, я, как никогда остро, как бы физически, понял то, что, казалось, понимал и раньше, когда писал о маоизме, имея в виду и сталинщину, а именно: не может быть горе другого народа предлогом для намека на горе свое, понял, что такая аллюзия безнравственна. И «кампучийский сюжет» здесь мне хотелось описать так, как я его и тогда понимал, и сейчас понимаю: как страшную беду, разыгравшуюся на глазах всего мира. Кому какое дело было до маленьких кампучийцев... Не думать о своем я, конечно, не мог, но кампучийское (как раньше и китайское) тоже вдруг стало своим — тем более что мы через все это прошли первыми.
И еще об одном. Как раз накануне моего отлета в Кампучию наши войска вошли в Афганистан. В своем кампучийском блокноте я нашел такую запись: «Ч. (А.С.Черняев – И.З.) об Афганистане: “Не понимаю — кому это надо? зачем? и что из этого выйдет?”» А на XIX партконференции ( июнь 1988) выяснилось, что даже некоторые члены Политбюро не были уведомлены об этой акции. Однако можно быть уверенным: и у афганской войны будут (наверное, уже есть) свои хроникеры.
А «Дублер» Адамовича. Хроника сталинских снов. Хотел всех под микроскоп бериевский посадить, а в конце концов сам угодил под микроскоп нормальный. Зрелище не из приятных. Диагноз: неизлечимый нравственный спидоносец. В убогом его воображении, абсолютно лишенном культуры, питаемом лишь тщеславием и завистью, подозрительностью и мстительностью, такая ситуация не была предусмотрена, хотя... Хотя он, конечно, считал себя великим мастером заметания следов своих преступлений (стало быть — трусил), но и тут воображение его оказалось слишком убогим: все его грязные, кровавые швы выходят наружу: даже ему всех хроникеров уничтожить не удалось, все хроники — сжечь.
Вывод? Как никогда нам нужна честная хроника всей нашей жизни, хроника жизни всей страны, а сегодняшней жизни — особенно.
Горе одного народа не заглушишь
горем другого.
Утром 4 января 1980 года наш самолет вылетел из Хошимина (бывш. Сайгон) на Пномпень. Граница была видна! Нет, не столбы пограничные: в глаза бросалась почти абсолютно геометрическая, неправдоподобная, нечеловеческая, ненатуральная правильность рисовых полей Кампучии — в отличие от естественной неправильности их во Вьетнаме. Мне разъяснили: «Это всё перекроили, искромсали при “красных кхмерах”, по их “плану”, не считаясь ни с рельефом, ни с почвой, ни с чем...» Вот и tabula rasa.
Аэропорт Почентонг. Низкое здание. Очень пустынно. Несколько маленьких сиротливых кучек людей. Сразу захватывает чувство какой-то тягостной неловкости, будто пришел в опустелый, разоренный дом, где только что был погром, были похороны, а ты — в гости...
В автобусе переводчица (с кхмерского на английский), девушка лет 25, говорит мне каким-то бесстрастным, механическим голосом: «У меня были семь братьев и сестер, мама, папа. Их всех убили. Меня тоже почти убили. Но мне теперь хорошо, потому что у нас очень хорошее правительство». Потом, повернувшись к моему соседу, таким же граммофонным, нечеловеческим голосом: «У меня были семь братьев и сестер, мама, папа. Их всех убили. Меня тоже почти убили. Но мне теперь хорошо, потому что у нас очень хорошее правительство». И то же самое, слово в слово, тем же тоном, по очереди, — третьему, четвертому, пятому, всем! О таком — так. А когда она вдруг улыбнулась, это стало еще страшнее: будто улыбается мертвый. Но она оживала, оживала! Я прозвал ее — «мисс Ноу», потому что всякий раз на мой вопрос: «Вы устали?» (жара тридцать пять градусов, часов двенадцать — четырнадцать в день на ходу) — она сначала неизменно и испуганно отвечала: «Ноу, ноу, ноу, камрид Юрий!» (а я сам был готов валиться с ног) А потом, задавая ей этот вопрос, я за нее же и отвечал: «Ноу, ноу, ноу...» И она — смеялась. У меня в блокноте написано ее рукой: «Miss So Savy» (ее имя). Бедная счастливая девочка, ей так нравилось, когда ее называли — «miss».
Едем в автобусе мимо банка — взорван, взорван остервенело, как твердыня, символ буржуазности. Это взорванное здание — тоже своего рода выставка, выставка в Пномпене против выставки в Лондоне (той, у Достоевского). И вдруг, как никогда остро, «доходит»: вот что значит — бесы против бесов, бесы изгоняют бесов...
Туолсленг. Бывшая школа, при Пол Поте тюрьма, сейчас музей. Классы, превращенные в камеры пыток. Орудия пыток. Ящики для скорпионов (скорпионы предназначались специально для женщин: женщин любили пытать скорпионами). Из многих сотен людей, содержавшихся здесь, уцелели случайно считанные единицы. Сохранились их фотографии, сделанные убийцами. Как в Освенциме. Непонятно: зачем, для кого эта «розница»? откуда этот «орднунг»? Ведь убивали многими тысячами, разом, «оптом». Заставляли вырывать огромную яму, сбрасывали туда живых людей и засыпали (иногда бульдозерами), — земля еще долго колыхалась, шевелилась, как живая. А тут... Я почему-то догадался, и потом это подтвердилось: оказывается, тут содержались «особо опасные». Тут главари «красных кхмеров» личные счеты сводили со своими врагами — удовольствие растягивали...
Висят картины пыток, убийств. Подошел автор — очень старый кхмер. Спасся чудом. Не художник. Рисовал самодельными красками. Раньше не рисовал никогда. Но это страшнее самого страшного у Гойи. Тоже ведь хроника. Завещание этого старика, все видевшего своими глазами, все испытавшего на себе, — завещание его своему народу, всему миру. Смерть, безмерность страданий родила в нем художника.
Мне рассказали о другом старике, художнике по призванию, по профессии — композиторе. У него произошло все наоборот: после всего этого он не мог больше писать музыку, потому что слышал только один звук, только одну «мелодию» — стоны, крики пытаемых, убиваемых людей, слышал днем и ночью, во сне и наяву, закрывал уши ладонями, затыкал их ватой, воском, ходил, сидел, лежал, мотая головой (даже во сне), пытаясь отогнать, вырвать, выскрести эти звуки, — не мог.
Рисунки маленьких кхмеров. В каждом рисунке не солнце, смерть, смерть, смерть. И это — хроника. Хроникеров просто не успели убить, уморить.
В одном классе, у стены, в кучу свалены сотни книг. Почти все изуродованы. Не книги, а трупы, скелеты, черепа книг. Большинство на французском. Ищу хоть одну нашу, пусть в переводе. Нет. Да и откуда им тут быть? И вдруг нахожу сразу три, и все три — по-русски. Б. Виппер. «Борьба течений в итальянском искусстве XVI века». М., 1951. (…Итальянского, XVI века, наш автор, вышла в Москве... и вот она здесь, в Пномпене, в Туолсленге, бред какой-то.) А еще: Тургенев и Достоевский. Тоже изуродованы. «Бежин луг», тоненькая. Пять мальчишек в ночном: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Друг другу «страхи рассказывают» — о привидениях, леших, покойниках, о «разрыв-траве» и о «привидении небесном» (солнечное затмение). В «Братьях Карамазовых» нет самых последних страниц (У Илюшиного камня), тех, где Алеша Карамазов просит мальчиков вечно помнить Илюшу Снегирева, «и несчастного грешного отца его». Откуда они здесь, Тургенев и Достоевский? Вот где еще пришлось им встретиться после смерти. Вот еще где, вот еще на чем пришлось примириться. До сих пор жалею, что не взял обе книги с собой. Надо было бы отдать их в ленинградский музей Достоевского, в тот зал, где — «Бесы». Положить рядом с романом, а в нем раскрыть страничку, на которой: «...мы всякого гения потушим в младенчестве...»
Больше ста лет назад критики подсчитали: в «Бесах» — 13 смертей (7 убийств, 3 самоубийства, 3 человека умерли своей смертью, впрочем, не будь бесов, остались бы жить) и 4 сумасшествия. Подсчитали и — возмутились: сплошное, дескать, кладбище и сумасшедший дом! Клевета на человека, человечество, клевета на самое действительность!..
Простой статистике нашего XX века эти прекраснодушные критики не поверили бы, наверное, ни за что. Не поверили бы, что будут такие «судороги», когда число убитых намного обгонит «естественную смертность», которая покажется недостижимым даром. Не поверили бы, что графа «смертность» окажется слишком неопределенной — что это: расстрел? тюрьма? голод? страх? горе?.. Не поверили бы, что число убийц будет порой превышать самое большое число уголовных преступников всех других разрядов и что профессия палача станет массовой и очень, очень даже высокооплачиваемой...
Ко многому, однако, привыкли люди XX века. Но вот Кампучия при «красных кхмерах»: три миллиона погибших из восьми. Три миллиона за три-четыре года. Сталинщина в кубе.
Это «всего» 0,056% от 4,5-миллиардного тогдашнего населения Земли — все подсчитано!
«Процент! Славные, однако, у них словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну тогда... было бы, может быть, беспокойнее», — говорит Раскольников и добавляет, вспомнив о сестре: «А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?»
«Всего» ноль целых пятьдесят шесть тысячных процента...
Но это — 37% народа Кампучии.
Это — 100% для этих трех миллионов, ни больше ни меньше.
А сколько «процентов» для каждого из них?
Для не любивших еще? Не рожавших? Для беременных?
А для детей?
А в каких «процентах» измерить не только сотни тысяч убитых детей, но и тысячи детей, превращенных, выдрессированных в убийц?
Дети-убийцы...
А еще — дети-людоеды. Их научили: убей врага, съешь его печень и станешь еще храбрей. Я видел мальчишку, который проделал этот ритуал больше двадцати раз: убивал, съедал... В горах, в лесах полпотовцы (некоторые из них подвизались в Сорбонне) взяли поколение несмышленышей и — воспитали-выдрессировали из него гигантскую стаю детей-зверей, подростков-волков, привили ей вкус к человечине и — ату! ату! — спустили эту стаю на город, на интеллигенцию, на всех просто нормальных людей.
А еще появились дети-безумцы. Нет, не родившиеся такими, а ставшие, сделавшиеся такими от того, что происходило с ними, что происходило на их глазах. Это — как? По какой графе?..
А как по всем этим рубрикам будет выглядеть вся сводная статистика всего XX века, статистика-зеркало? И не отшатнутся ли люди от этого зеркала в ужасе: «И это — возможно?! И это — сделали, допустили, не предотвратили — мы?!» А ведь сколько бы ни бояться такого зеркала, а без него — не обойтись. Без него этот век так и сгинет в самообмане. Но с ним, может быть, и достигнет, наконец, адекватного самосознания и передаст веку следующему — правду, пусть самую жестокую, но правду о себе.
Я был в Кампучии в составе делегации ОСНАА — Организации солидарности народов Азии и Африки. Не раз, насмотревшись за день страшных картин и наслушавшись еще более страшных рассказов, мы вспоминали «Бесов» (я захватил с собой два издания романа — английское и французское).
Но мог ли даже Достоевский предвидеть, что его роман окажется своеобразным путеводителем здесь, в Азии, в далекой «провинциальной» стране (о которой он, может быть, даже и не знал), через сто десять лет?
У меня и сейчас звучит в ушах одна и та же фраза на многих языках — от кхмерского до английского, — но с одной и той же интонацией, интонацией неописуемой горечи и какого-то испуганного восхищения, фраза, которую я слышал в Кампучии от всех, кто вспоминал или впервые узнал роман «Бесы», и которая лет тридцать пять назад родилась и у меня, и у моих друзей: «Не может быть! Не может быть! Откуда он это знал?!»
По ночам мы читали оттуда — как восхищался Петр Верховенский Шигалевым: «У него хорошо в тетради, у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! <...> Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина!»
Мы читали: «Слушайте, Ставрогин: горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева! Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство. <...>
Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не будет желаний, и страдание для нас, а для рабов шигалевщина...»
Мы читали — о принципах «организации», точь-в-точь, буква в букву осуществленных полпотовцами, которые о «Бесах» уж конечно и не подозревали: «Я вас посмешу: первое, что ужасно действует, — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете, социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. <...> Затем следуют чистые мошенники; ну эти, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется. Ну и, наконец, самая главная сила — цемент, все связующий, — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот “миленький” трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают. <...> Да, именно с этакими и возможен успех. Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален».
Мы читали, как Ставрогин перебивает здесь Петрушу, раскрывая главный козырь его игры: «Нет, я вам скажу лучше присказку. Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются? Все это чиновничество и сентиментальность — все это клейстер хороший, но есть одна штука еще получше: подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать. Ха, ха, ха!»
Мы читали ночью обо всем том, что слышали от очевидцев днем, читали о том, следы чего только что видели своими глазами:
«Одна десятая получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать».
Мы читали, как Лямшин, хихикая, острит: «А я бы вместо рая взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал бы их на воздух».
Читали, как отвечал ему Шигалев: «...и, может быть, это было бы самым лучшим решением задачи! Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь вам удалось сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали».
А в черновиках к «Бесам» Петр Верховенский говорил так: «Если бы возможно было половину перевешать, я бы очень был рад, остальное пойдет в материал и составит новый народ» (11; 148).
«Новый народ» — это же буквальная формула «красных кхмеров».
Еще (оттуда же): «Ничего нет лучше вот этакого первоначального образования. Самые восприимчивые люди выходят. Грамотностью только раздразнишь, раздражишь. На них-то и славно действовать! Матерьял!» (11; 265).
«Все начнут истреблять друг друга, предания не уцелеют. Капиталы и состояния лопнут, и потом, с обезумевшим после года бунта населением, разом ввести республику, коммунизм в социализм. <...> Если же не согласятся — опять резать их будут, и тем лучше» (11; 278).
Сравни — Пол Пот: «Для строительства нового общества нам достаточно одного миллиона кампучийцев» (убить три из восьми — мало).
Сравни — Мао Пол Поту: «Товарищи, вы одержали блестящую победу. Один удар — и нет больше классов».
Вот что значит, как говорил Степан Трофимович: «Петруша — двигателем»...
17 апреля 1975 года (как раз на исходе третьей четверти великого XX века, как раз на исходе II тысячелетия нашей эры) «красные кхмеры» вошли в Пномпень. Был разгар лета, на солнце градусов сорок. Народ ликовал. Вдруг непонятный ледяной ужас охватил, сковал ликующих: лица «освободителей» были холодны, камены, непроницаемы, преисполнены какой-то мрачной решимости. Дольше всех, конечно, ничего не могли понять дети: для них это был невиданный праздник, они забегали вперед колонн, стараясь вышагивать по-военному, бежали рядом, но их не замечали, а если они попадались под ноги, их, не замечая — молча, молча — откидывали, отпинывали, наступали на них. А они, не понимая ничего, застывали, замолкали, отползали. Их сменяли другие... Ужас стал еще более непонятным, когда вдруг через зловещие мегафоны послышалось: «Немедленно всем покинуть город! За невыполнение приказа — расстрел на месте. Немедленно всем покинуть город!..» Очевидец рассказывал мне, что от звука этого шел буквально мороз по коже: сам звук казался ледяным... И сотни тысяч людей, не успев почти ничего захватить с собой, были тут же согнаны в колонны, в стадо, и, под палящим солнцем, под охраной, потянулись по трем дорогам — в «трудовые коммуны», в «земной рай, если уж так это назвали». Стадо и стая. Осуществленный идеал Петруши. И происходило это, в сущности, на глазах у всего мира. Ведь теперь всё и всем становится известно почти сразу же, а тут и посольства еще не были выдворены (кто-то успел сфотографировать происходящее и даже заснять на кинопленку). Летали спутники и космические корабли. Где находились мы в те часы? что делали?.. По обочинам трех дорог валялись трупы убитых и умерших в пути. Город вымер. Ветер носил по улицам миллионы банкнот. Грабежей не было: вся «городская роскошь» (машины, телевизоры, холодильники, часы) была остервенело разбита...
Таких «исходов» не знает и Библия. И даже потрясающий фильм «Апокалипсис» Коппола (как раз о Кампучии) кажется после этого кинобеллетристикой. «Один удар — и нет больше классов»...
Так Пномпень навсегда встал рядом с Герникой, Хиросимой, блокадным Ленинградом.
Я бродил по городу, держась солнечной стороны и силясь вообразить себе то, что и как произошло в тот день. И снова и снова не хватало никакого воображения представить реальность, не хватало никакой фантазии признать действительность...
Перед отъездом в Кампучию я, естественно, читал литературу об этой стране, о ее трагедии. Прочитал историю одной женщины, которая, спасаясь от «красных кхмеров», изменила свое имя, как и ее муж и дети. Они пытались скрыться, но, даже не опознанные, угодили в полпотовские лагеря. На ее глазах и на глазах ее старшей дочери был расстрелян муж — просто за то, что он — интеллигент, врач (более чем достаточное основание для смертного приговора), а к тому же он был пойман по доносу на том, что помогал больным и раненым в лагере. Забили и дочь. Две другие умерли «сами по себе», от голода, болезней (но сын — остался). Женщина говорила: «Если бы я не видела всего собственными глазами, если бы не была свидетелем случившейся трагедии, едва ли я поверила бы в возможность этого. В свое время я смотрела фильмы о гитлеровских лагерях. Казалось, такое невозможно в действительности. Но при режиме Пол Пота я сама пережила подобное...» Я прочитал еще, что она собирается писать книгу под названием — «Спасение из ада»: «Да, именно так. Потому что это был настоящий ад».
Эта женщина— принцесса Сисоват, двоюродная сестра Народома Сианука. Понятно, у меня мелькнула еще в Москве мысль: познакомиться с нею, хотя, признаться, я в это мало верил.
Через несколько дней после прибытия в Пномпень я все же решился спросить, нельзя ли ее увидеть. «Как увидеть? Вы же видите ее каждый день с утра до ночи». Оказалось, она работала с нашей делегацией старшей переводчицей, и все ее звали просто «Лиди»...
Мы проговорили с ней полночи. Вот одна ее фраза, записанная мною в блокнот: «В лагере, минутами, я вспоминала любимые книги, спасалась ими, но думала: нет такого писателя, который мог бы, хоть отчасти, вообразить себе все то, что произошло с нами. Это был ад. Это были настоящие бесы. И все их идеи бесовские» (о Достоевском, оказалось, она не слыхала).
Я показал ей те самые страницы из «Бесов», которые мы перечитывали по ночам. Надо было видеть ее лицо, глаза. Который раз я услышал этот вскрик: «Не может быть! Не может быть! Откуда он это знал?!»
Вскрик этот — как физическая (одинаковая у всех) реакция на удар, на боль.
Помолчав, она спросила: «Когда это написано?» — «В 1870–1872-м». И все с тем же непередаваемым чувством ужаса, горечи, изумления она сказала: «Боже мой! Даже название такое! Мне страшно. Они именно все так и сделали. Если бы у нас раньше была такая книга. Как хорошо, что она есть у вас...»
Что я мог сказать ей, да еще в такой момент? «Как хорошо, что она есть у вас...». У нас есть и «Архипелаг ГУЛАГ».
Горе одного народа не заглушишь горем другого. Достоевский так глубоко зачерпнул в своем народе, в своем времени, что и другие народы, другие времена — себя узнали. Как хорошо, что «Бесы» теперь есть у всех... Бесы всех породнили горем. «Бесы» всех роднят его пониманием.
Я подарил ей роман, надписав: «Моей сестре».
Еще из «провинциальной хроники» Кампучии: «За храмом с золочеными фронтонами растут манговые деревья, увешанные плодами. Два мальчика лет по 13-14 не удержались и влезли на дерево, чтобы сорвать несколько плодов. Один “красный кхмер” приближается к дереву и, не говоря ни слова, вскидывает винтовку и хладнокровно стреляет в них. Мальчики падают один за другим, смертельно раненные. Тогда “красный кхмер” поворачивается к другим людям, онемевшим от ужаса, и говорит: “Будьте осторожны! Ничего не трогайте без разрешения ”организации”. Знайте, что все принадлежит народу, и все будет распределяться справедливо. Каждый получит свою долю. Никто не имеет права брать самовольно. Избавляйтесь от своих грязных привычек!”» “Красный кхмер”, который говорит это, не старше тех двоих мальчиков, которых он убил за несколько зеленых плодов манго».
Вопрос к другому «красному кхмеру»: «А как вы ведете себя по отношению к детям?»
Ответ: «К детям предателей? К ним я не испытываю никакой жалости. Только женщины оказывают некоторое влияние на мое поведение. Я всегда устраиваюсь так, чтобы оставить эту работу (убийство женщин) мит неари, товарищам-девушкам. Да, это мой большой недостаток. Это — пятно на всех моих ежемесячных характеристиках. Каждый месяц на нас составляют характеристику, где отражают нашу работу, революционное сознание, характер и прежде всего нашу непогрешимость, нашу нечувствительность к наказаниям, которым подвергают врагов свободы. С детьми работать гораздо легче. У нас есть товарищи, которые разбивают им головы о ствол дерева. Я предпочитаю пользоваться дубинкой из черного дерева. Это очень хорошее орудие. Если вы хотите избавиться от клопов, вы не довольствуетесь тем, что уничтожаете только взрослых клопов».
Хроникеру, записавшему это, удалось спастись.
Я побывал в 5-м номере гостиницы «Санаки» (бывш. «Роялл»). Здесь за неделю до освобождения Пномпеня полпотовцами был убит английский журналист М. Колдуэлл: он собирал материалы о Пол Поте и Иенг Сари. Эти его и убили, как убил бы Петруша нашего Хроникера. Может, и эти «великие грешники» будут каяться?..
После всех этих встреч, разговоров, картин, «хроник», казалось, что надолго, если не навсегда, пропадет всякое желание заниматься литературоведением. Но в то же время, как никогда раньше, стало ясно: многие наши дискуссионные и принципиальные литературоведческие проблемы, в сущности, давным-давно решены, решены — в чем-то главном — окончательно, решены способом совсем не литературоведческим — в лагерях, в кострах, в «культурных революциях», решены не цитатами — огнем, пулей, мотыгой по голове в качестве решающего аргумента. Трудно понимать Достоевского без книги М. М. Бахтина о нем. Но уж «Бесов»-то вообще нельзя понять (даже, если угодно, и в их «поэтике», в их «форме») без томов Нюрнбергского процесса или вот без таких откровений: «Это не мой метод — уговаривать, упрашивать: отрекись! прими наш символ веры! Много чести! А надо дело поставить так, чтобы каждому и каждый день приходилось выкупать собственную жизнь. Свою единственную и бесценную. Забрать ее как бы в залог — сам вручишь или ее у тебя силой прихватят, не это важно! — и пусть выкупают. Особенно важный взнос — первый. И лучше всего, надежнее всего — детской кровью... С этого начинается нужный нам человек, каким ему быть отныне и вовеки! Чем менее готов к такому шагу, тем интереснее. Прочесть бы его мозги: как изворачивается, как обещает себе и целому миру, что все поправит другими делами — еще верит, что будут какие-то другие. <...> Главное — окунуть в краску с макушкой, а потом можешь отряхиваться! Занятия этого хватит на всю оставшуюся жизнь. От детской крови еще никому просохнуть не удавалось. А кем только себя не воображали!» Это говорит Оскар Дирливангер («Каратели» А. Адамовича). Плоть от плоти, кость от кости — Петруша Верховенский из «Бесов».
В черновиках к «Бесам» я нашел такие две темы: матереубийство и детоубийство, причем — прямое, а не косвенное какое-нибудь.
1) «Сын убил мать» (11; 67). Вариант темы: «Мать Успенского (так вначале был обозначен Виргинский. — Ю. К.) узнала об убиении Ш<атова>, хочет донести. (Трагическое лицо.) Успенский умоляет ее не доносить. Доносит об ней Комитету, говорят, что надо убить ее. Он умоляет за нее, идет и доказывает на себя» (11; 107).
2) «...младенцев будут бросать в нужник или есть». Еще: будут «сжигать младенцев». И еще: «Сожжение младенцев обратится в привычку» (I. 11; 181). Такова логика звериного ума, ума-зверя, логика верховенщины, реализованная в XX веке в самом натуральном виде.
Как никогда стало ясно: пусть слова такого — «фашизм» — Достоевский не знал, но как социально-психологическое явление — его предвидел, бездуховную сущность его — понял, и «Бесы» — это могучий универсально-антифашистский роман, будь этот фашизм «красным» (Пол Пот) или «коричневым» (Гитлер). Тот и другой одинаково ставят людей только перед одним, реальным и самым предельным, выбором: между жизнью и смертью, между партией жизни и партией смерти.
Полпотовщина — полный, законченный, скоростной цикл развития социальной чумы, политической холеры, идеологического сифилиса — от «микробов в пробирке» (то есть в головах идеологов, в их статьях и книгах) до повальной эпидемии и массовой смерти, от появления идей-«трихин» до воплощения их в карательных экспедициях и трупах. Предельно наглядно и быстро, в «химически чистом виде», она раскрыла тайну всех подобных теорий: все они и есть не что иное, как составление и обоснование возможно более длинных проскрипционных списков, все они исходят из отношения к жизни человека, народа, человечества как к «чистой доске».
Достоевский еще в «Зимних записках о летних впечатлениях» писал о теории «чистой доски», о теории, согласно которой: «почвы нет, народа нет, национальность — это только известная система податей, душа — tabula rasa, вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула — стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки». Это было адресовано Достоевским - русским либералам.
Три года спустя он писал о той же теории уже применительно к социалистам: «Учение “встряхнуть всё par les quatre coins de la nappe (четырьмя углами скатерти» (франц.), чтоб, по крайней мере, была tabula rasa для действия”, — корней не требует. Все нигилисты суть социалисты. Социализм (а особенно в русской переделке) - именно требует отрезания всех связей. Ведь они совершенно уверены, что на tabula rasa они тотчас выстроют рай» (28, II; 154).
И об этом же в «Преступлении и наказании» — Разумихин. «Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! У них не человечество, развившись историческим живым путем до конца, само собою обратится, наконец, в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути! Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю: “безобразия одни в ней да глупости” — и все одною только глупостью объясняется! Оттого так и не любят живого процесса жизни: не надо живой души! Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! А тут хоть и мертвечинкой припахивает, из каучука сделать можно, — зато не живая, зато без воли, зато рабская, не взбунтуется! И выходит в результате, что всё на одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров в фаланстере свели! фаланстера-то и готова, да натура-то у вас для фаланстеры еще не готова, жизни хочет, жизненного процесса еще не завершила, рано на кладбище! С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и всё на один вопрос о комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно, и думать не надо! Главное — думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!»
«Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион...» И — отрезали: «Для строительства нового общества нам достаточно одного миллиона кампучийцев».
А вот Петрушина tabula rasa: «...горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева! Не надо образования, довольно науки!» И — сравнивали горы, истребляли цицеронов, коперников, шекспиров.
Недаром Мао уподоблял китайский народ «листу чистой бумаги»: «На первый взгляд — это плохо, на самом деле — хорошо. На листе чистой бумаги ничего нет, на нем можно написать самые новые, самые красивые слова, можно рисовать самые новые, самые красивые картины». «Культурная революция» и была такой «картиной». Уму непостижимо: почти миллиардную нацию, нацию великой культуры, заставляли — во второй половине XX века! — варить дома чугун, истреблять воробьев, — десятки миллионов людей днем и ночью бегали по полям с трещотками, чтобы не давать воробьям приземлиться, чтобы они передохли от усталости. Они и передохли, а поля, не защищенные от вредителей, погибали. И, как этих воробьев, гоняли, избивали интеллигенцию, натравливая на нее хунвейбинов, и поля культуры тоже почти вымерли.
Отсюда ведь, отсюда, из теории «чистой доски», — и родилось: «Один удар — и нет больше классов». Один «мазок» по «чистому листу бумаги» — и нет трех миллионов.
«Чистая доска» — это и есть пока еще безымянный, незаполненный, так сказать, «алгебраический» проскрипционный список (самый длинный из всех возможных). Но дайте срок — и эти «алгебраические» знаки («новый народ») превратятся сначала в знаки «арифметические» («достаточно одного миллиона»; «не страшно, если останется и треть населения»), а последние — в конкретные имена, в реальные жизни реальных людей, которых будут превращать — в трупы, сначала в розницу, потом оптом.
«Чистая доска» — значит: нет законов природы и нет законов человеческой природы, нет истории природы и нет истории человечества, нет истории народов, наций, племен, нет истории культуры. А раз нет — значит: считаться абсолютно не с чем.
На «чистой доске» можно рисовать только одной «краской» — кровью, и «художники» здесь — только убийцы, только каратели жизни.
И жизнь как «чистая доска» означает лишь одно: «чистить» - карать будут самое жизнь.
Tabula rasa есть carte blanche смерти.
Все это до ужаса — немыслимо — просто, когда все осуществилось. Все это кажется немыслимо сложным, неисповедимым, пока дело только замышляется, пока оно только идет, крадется к этому.
Но сверлит одна и та же мысль: а если бы те, кто идет за бесами по молодости лет, по наивности, неопытности, глупости, «отвлеченности», кому нравятся все эти чумные, холерные, сифилитические микробы (когда смотришь на них, так сказать, в микроскоп: ах, какие они там красивенькие, какие «орнаментальные»!), если бы увидели они, уже простым, невооруженным глазом, все отвратительные язвы, рожденные этими красивенькими микробами, увидели бы горы трупов, если бы связались в их сознании, в их чувствах все начала и все концы болезни, — то неужели бы не отпрянули они в ужасе и гневе? Неужели оказались бы только перед одним выбором: быть убитыми или убивать самим? Стать жертвой или палачом? Или есть другой выбор? Возможно ли в самом зародыше распознать отвратительную, смертельную болезнь и уже в зародыше — выжигать ее, не то поздно будет? Прививка, прививка нужна от заразы. И прививка эта — прежде всего — правда о заразе.
«Жестокий талант», «Не за тех бесов вы ухватились» такие отметки, как учитель взбалмошному ученику, выставил прекраснодушнейший (в данном случае) Михайловский — Достоевскому. Воскресни он сегодня, взгляни, «не отвертываясь» на сталинщину, на недавний Китай и недавнюю Кампучию, — да неужели не взял бы он своих слов обратно? Есть ли, в конце концов, более высокий, точный, решающий критерий истины (в том числе и художественной), чем жизнь и смерть рода человеческого? Или — пусть погибнет мир (от бесов), а формула «Не за тех...» все равно, все равно верна?! За тех! За тех, которые уже извели многие миллионы людей и которые, будь их воля, уподобили бы всю Землю самолету (образ, рожденный ими самими), а человечество — заложнику, угрожая ему гибелью, если не согласится оно на «безграничное повиновение» им, бесам. За тех, которые собираются заменить завтра пластиковые бомбы на атомные и уже не выкрадывать отдельных премьеров и президентов, а разом захватывать и взрывать парламенты и советы министров — это грозит, к этому идет! За тех, которые провоцируют сегодня таранное самоубийственное столкновение двух систем. За тех, за которых еще «ухватились» Герцен и Щедрин...
А еще приходит вдруг такая мысль: воскресить бы всех людей, погибших от бесов, да их и опросить: за тех или не за тех? Им — кому ж еще? — решающее слово. Но их нет, значит, слово это — за нашей памятью о них, за нашей волей ответить на вопрос: сколько же еще миллионов должны угробить бесы, чтобы стали наконец понятны предупреждения нашего великого соотечественника ?
«Не за тех...» Ладно. Это сто лет назад сказано. Но вот сейчас, после всего случившегося, перед лицом всего происходящего, перед угрозой всего, что грозит, мы вдруг опять слышим: идет эскалация положительных оценок «Бесов», надо бы ее пресечь...
Может быть (и даже наверняка), это и могло бы раньше кого-то запутать и запугать, но уж никак не сегодня. И если тут есть профессионализм, то не литературоведческий, не мировоззренческий и не политический, а лишь демагогический. И словечко-то какое: эскалация... А мы его — примем.
Да, идет эскалация — только не «положительных оценок романа», а все более глубокого понимания противоречивой природы гениальных открытий Достоевского, все более глубокого понимания того, как работает роман сегодня, работает — вопреки очевидным ослеплениям художника и благодаря его прозрениям, идет эскалация понимания того, почему роман работает сегодня, как никогда. А проще говоря: идет — наконец-то! — процесс спокойного изучения романа, к которому (изучению) противники «эскалации положительных оценок» не имеют ни малейшего отношения — ведь буквально ни миллиграмма на чашу истины не положили, а просто давят руками на чашу другую. Поразительно: ведь даже, казалось бы, именно их работу — собрать все «отрицательные» факты, свидетельствующие о невероятном ослеплении Достоевского, — выполнили не они.
Да, идет эскалация — но не «положительных оценок романа», а эскалация самой бесовщины, и вот она-то и требует немедленного пресечения.
И на какую такую луну надо улететь, чтобы смотреть и не видеть, слушать и не слышать?
«Лучше бы “Бесов” не было!» — это кто сказал?
«Не может быть! не может быть! Откуда он это знал?!» — а это кто?
А «настольный политический роман» — кто?
А почему монолог Петра Верховенского — «Я мошенник, а не социалист» — в спектаклях по «Бесам» аудитория воспринимает так бурно и так точно? Да потому, что выучилась отличать мошенников от социалистов. Потому, что в мерзости верховенщины увидела мерзость бериевщины. Потому, что разоблаченная — эта мерзость бессильна.
Вот ведь какая тут самая реальная реальность, кстати сказать — политическая прежде всего.
А все-таки я верю, хочу верить: можно, можно переубедить самых непримиримых, если только вернутся они со своей луны на Землю. Одолейте самолюбие (ну и что ж, что ошиблись — кто не ошибался, даже из самых великих?), отбросьте затверженные чугунные формулы, с которыми и думать не надо (кто из нас тут не богач?), перечитайте роман, сравните его — страницу за страницей — с сегодняшней реальностью — что оправдалось? что нет? — удивитесь, восхититесь красотой и точностью мысли, чувства, слова, образа, вознегодуйте на Петруш вчерашних и сегодняшних, обрадуйтесь (пусть радость здесь горькая) правоте нашего гениального соотечественника, так болевшего за Россию, за человечество, за нас с вами (он сто лет назад видел то, что до нас только-только «доходит»), а главное, помогите работать, загоритесь работой, — ее ведь так много и она так важна. Ведь, в самом деле, о слишком серьезных вещах идет речь, — не о состязании самолюбий, не о сведении каких-то счетов, не о желании казаться, быть правым во что бы то ни стало, и даже не только о литературоведении, — а действительно о жизни и смерти всех. Ну как же не прозреть?
Наивность — все это? Да, пожалуй что и наивность. Только знаете, наивность веры в правду — это на самом деле очень мощная сила и не такая уж простодушная. От наивности такой лопаются вдруг и рвутся все хитросплетенные (а все равно гнилые) веревки, все узлы из них.
...Я стою на окраине Пномпеня, возле маленькой ямы, наскоро вырытой и наскоро набитой проломленными, снесенными человечьими черепами, почему-то одними черепами. С полпотовщины прошел год, а следы такие — еще повсюду. По углам ямы — четыре прутика-палки. Рядом, на пустыре, в клубах пыли, мальчишки с криками гоняют тряпичный мячик (футбол был запрещен «красными кхмерами» под угрозой смерти). Яма сверху — метр на метр. Упорно соображаю: сколько в глубину? Метра полтора, не больше: глубже одному человеку не выкопать — негде развернуться, чтоб выбрасывать землю. Нет, пожалуй, метр. Тупо считаю: сколько там черепов? Ничего не могу с собой поделать: не уйду, пока не буду знать, будто от этого зависит что-то самое-самое важное. Не могу сосредоточиться.
Почему-то вспоминаю, как в начале июля, в прошлом году, в Москве, мне позвонили и сказали: Ш. погибла (я решил что речь идет о дочери моего друга). Я не знал, что делать, как вдруг позвонили снова, и оказалось, что я ослышался: погибла не она, погибла Лариса Шаститко.
И вот с тех пор я не могу избавиться от жуткой мысли-западни: будто от того, ослышался я или не ослышался, и зависело, кто из них остался бы жить...
Начинаю считать сначала. Сбиваюсь. Наконец досчитываюсь. Сверху шестнадцать. Надо помножить на десять-одиннадцать. Выходит 160–176. Никогда бы не поверил, что столько людей в такой маленькой яме. 160–176 человечьих черепов, таких, как у меня, у всех у нас, у Христа, Шекспира, Пушкина, это же все равно, все равно. Кто они, эти 160–176? Кто — каждый из них? В каждом черепе был мозг, а там — мечты, мозг выбили, вытряхнули, растекся, сгнил. У каждого черепа снесенного было лицо, на лице глаза, улыбка, боль. А я даже не знаю, 160 или 176. Тоже «арифметика». И та неточная. Один череп совсем маленький, явно детский, лицеистский, а внизу, может, их и больше.
«Мисс Ноу» несколько раз мягко тянет меня за рукав рубахи. Машинально вижу, как мальчишки играют, но почему-то не слышу их криков, будто кто-то выключил звук. И точно так же Петруша и Пушкина бы череп снес, и Пушкина бы мозг вытряхнул, а если бы знал, что из Пушкина выйдет, то снес и вытряхнул бы еще и в Лицее, как раз после державинского благословенья. Вот и вся полифония. А он, Пушкин, чего боялся? «Не дай мне Бог сойти с ума...» Дай! дай сойти! Я ничего не понимаю. Не понимаю, зачем, действительно, они все — были, зачем — нужны эти Шекспиры, Шиллеры, зачем — Пушкин, Достоевский со своими «Бесами», со своим «уличным пением»? Какой, к черту, Макбет, какой Борис Годунов, какая слезинка ребенка — кто за что ответил? кого какая гложет совесть? кто в чем покаялся? Зачем, кому нужны мы все, живые, если мы это не предотвратили, если это было, было и было, везде, всегда, в Европе, в Америке, в Китае, не надо далеко летать, возвращайся да оглянись.
Твой же родной дядя, брат мамы, испанской войны герой, убит в 37-м, где его могила? А как мама годами ездила Люберцы сдавать посылки для другого своего брата, куда-то туда, а все преступление в том, что его Сталин в плен сдал в 41-м, вместе с миллионами других (и им же за плен отомстил), а он из плена бежал, с итальянцами партизанил, а потом в Сибири где-то, в подвале церковном их держали несколько суток, стояли вплотную, а все равно — кто устал, осядет и захлебнется, вода чуть не по горло, так они поддерживали друг друга по очереди, чтоб хоть пять минут поспать стоя, да еще крысы водяные... В 40-м приехал из Латвии к нам в Пермь. Все впереди, все блестит, молодой, красивый, четыре значка, лейтенант, всем подарки невиданные. Вся коммуналка у нас собралась (вино, пельмени), я у него на коленях, счастливей нельзя. Он про Латвию, как там живут. А потом: «У меня часы с небьющимся стеклом!..» Все так и ахнули. «Не может быть!» «Не верите?» Взял вилку да по часам — вдребезги. «Эх, плохо делают!..» А после лагерей рассказывал: «Ни о чем так не мечтал, как об одном: чтоб комнатка своя, и занавеска на окне обязательно, хочу закрою, хочу открою, и чтоб чай с малиновым вареньем, и никто не вмешивался...» Я ему о часах напомнил — «Меня самого, как те часы...». Да что там, хватит, капля в море, не горем же хвастаться, вон М. М. Бахтину повезло, в ссылке счетоводом работал, экая беда — гений счетоводом, да он никогда и не жаловался, вроде Ивана Денисовича. А сам ты вообще как сыр в масле катался, подумаешь — из аспирантуры выгнали на два месяца, да пригрозил этот: «Годом раньше, быть бы вам лагерной пылью...» Курам на смех. «Быть бы» — условное наклонение, а сколько миллионов не условным наклонением в пыль превратили, нелюди, нелюди.
А теперь — «Надо перепрыгнуть через поколение двадцатого съезда», а то, мол, мы так развратились, так развратились от этого проклятого 56 года (от одной миллионной доли правды развратились, вот какие мы развратники)...
Яма, яма, яма. Какая яма? Вспомнил — какая. Которую Пьер Безухов созерцал в оцепенении. Так разве это яма? Разве там убийство? Эк, сравнил. Там еще гуманизм, эстетика. Там расстрелыцики-французы стеснялись. А в России в девятнадцатом веке один палач нарасхват был, как его?..
Перед отлетом Адамович дал «Карателей» прочесть, в рукописи — неужто напечатают? А у него еще присказка о Сталине есть, называется: «Дублер». Все одно и то же... И все это где-то есть, есть и есть, и все это снова, снова и снова где-то может быть, и все это непременно где-то будет еще, и еще, и еще. Все абсолютно бессмысленно. Где-то там, как на другой планете, в другом времени, кипят — в вате, в тумане — какие-то дискуссии, интриги... полифония — не полифония, есть самообман — нет самообмана... Ах, не упрощайте, не упрощайте, ах, все сложнее, все тоньше, относительнее...
Все вопросы
погашены. Все абсо
 лютно
опостылело. Знаю, знаю: все равно нельзя
так думать, нельзя так чувствовать. Не
положено. А почему, собственно, нельзя?
Кем, кем не положено? А если всей Земле
этой — череп снесут, череп снесем?
Кому хоронить? Куда хоронить? Вот
смешно-то: нерешенным останется вопрос:
можно или нет ставить «Бесов» в театре
или в кино? А еще вот беда: кто-то кого-то
недозаклеймит. Кто-то на кого-то
недостучит. Кто-то недотрусит. А кто-то
кого-то не успеет обскакать в карьере.
Опоздает, бедненький. Всего, всего на
пять минут опоздает. Ему и всеобщего
спасенья не надо, если там счеты с кем-то
свои не сведет. Зато ему и всеобщая
смерть не страшна, если до нее исхитрится
их свести, если успеет кому-то отомстить
за собственное ничтожество. Homo
sapiens!..
А кто-то недолюбит. Кто-то недодумает,
недопишет, недоговорит мысли, слова
такой невозможной красоты, что...
лютно
опостылело. Знаю, знаю: все равно нельзя
так думать, нельзя так чувствовать. Не
положено. А почему, собственно, нельзя?
Кем, кем не положено? А если всей Земле
этой — череп снесут, череп снесем?
Кому хоронить? Куда хоронить? Вот
смешно-то: нерешенным останется вопрос:
можно или нет ставить «Бесов» в театре
или в кино? А еще вот беда: кто-то кого-то
недозаклеймит. Кто-то на кого-то
недостучит. Кто-то недотрусит. А кто-то
кого-то не успеет обскакать в карьере.
Опоздает, бедненький. Всего, всего на
пять минут опоздает. Ему и всеобщего
спасенья не надо, если там счеты с кем-то
свои не сведет. Зато ему и всеобщая
смерть не страшна, если до нее исхитрится
их свести, если успеет кому-то отомстить
за собственное ничтожество. Homo
sapiens!..
А кто-то недолюбит. Кто-то недодумает,
недопишет, недоговорит мысли, слова
такой невозможной красоты, что...
Я ничего, ничего не понимаю в эти минуты, когда времени нет. И вдруг понимаю все. Понимаю, что так больше нельзя, так дальше нельзя. Вот что не положено. Понимаю и, может быть, впервые: «Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера?.. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Всюду мертво и всюду мертвецы». Так?
А вот это — так: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, — не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки»? Это — так? Так? А если я тоже видел истину? И прежде видел, и сейчас вижу. И не живой ее образ, а мертвый. Труп я ее вижу. И не труп, а череп. Пустой череп истины.
Вдруг спохватываюсь: конечно, конечно, яма все-таки меньше метра. Она же сверху рылась, а не изнутри. Я в другом месте, около Туолсленга, видел, как рыл такую же один кхмер, слабый-слабый, кожа да кости, я еще подумал: у них и сил нет рыть глубоко. Значит, их меньше, меньше там, может, на целую треть, а может, и на половину! Какое-то опять жуткое чувство: будто именно от моего подсчета все и зависит сейчас, зависит — жить или не жить этой трети, этой половине или — другой. Я ошибусь, а им как?..
Тряпичный мячик попадает вдруг прямо в яму. Мальчишки весело вытаскивают его. Оцепенение проходит. Все вокруг становится оглушительно громким, будто опять кто-то включил звук, включил время. Мы с «мисс Ноу» идем к автобусу...
Потом, ночью, запишу все это бессвязно в блокнот: «У ЯМЫ. ХРОНИКА ТРЕХ МИНУТ». Последняя запись: «Абсолютная безнадежность — нет у меня таких слов (их вообще, наверно, нет), чтоб рассказать обо всем этом. Хотя одно-то слово знаю уже точно, с 54 года знаю: Не постой за волосок, головы не станет...»
Мы решаем сегодня задачу, как бы заранее имея ответ. Мы имеем триаду: цель — средство — результат. Закончена огромная историческая эпоха — эпоха становления, развития и выявления до своего логического конца сущности и фашизма, и коммунизма. И потому мы как бы можем сегодня, в свете конечных результатов, оценить эту эпидемию.
То, что 70 лет назад казалось верным только единицам — кровное родство коммунизма и фашизма, сейчас стало едва ли не общим местом. Но в действительности мы стоим лишь в начале исследования проблемы. И эти «двойники» — коммунизм и фашизм — еще много расскажут друг о друге. Каждый из них помогает лучше понять другого. Это настоящие сиамские близнецы, кажущиеся разрезанными, на самом же деле все более срастающиеся.
Августовский путч 1991 года еще раз доказал кровное родство этих явлений. Вечером 19 августа, давая нелегальное интервью Российскому телевидению для последующей передачи его Си-Эн-Эн, я сказал: «Наконец-то коммунизм и фашизм облобызались и теперь-то они уже неразрывны. Получился (и уже давно) «социально-идеологический гомосексуализм». То, что происходит сейчас в России, подтверждает, что коммунизм есть не что иное, как социальный расизм».
Для фашизма превыше всего раса, нация. Для коммунизма в его ортодоксальном облике — пролетариат. Как нам теперь ясно, мессианского пролетариата не было, нет и быть не может, — это утопия, выдумка. К •реальному же пролетариату классики марксизма относились абсолютно пренебрежительно. Клеймили его за низменность, ограниченность интересов, за «тред-юнионизм», за «рабочий аристократизм» (т.е. умение хорошо работать). И им, марксистам, ничего не оставалось, как реально делать ставку на люмпенство.
Точно так же нет и мессианских наций. Фашизм относился и относится к реальному народу, русскому и даже немецкому, как к быдлу, которое не способно осознать своих интересов. А мы, мол, их осознаем, т.е. делается ставка на худшее в нации: на люмпенство. Действует тот же принцип: кто был ничем, тот станет всем. Соблазн этого чисто люмпенского лозунга чрезвычайно страшен.
Мы убедились сегодня в том простом и великом открытии, которое совершил Достоевский в прошлом веке. Всю жизнь мучился он над романом «Житие Великого грешника» (который так и не написал), полагая, что если ему удастся показать природу Великого грешника в покаянии, то это поможет высечь ту искру, которая духовно зажжет, взорвет человека. И начнется процесс исправления. Говорят, что Достоевский этой задачи не решил. Решил! Покаяние Великого грешника — невозможно. Он получил отрицательный — и важнейший — результат. А мы в XX веке видим этот результат в жизни.
Простите меня за грубый переход от литературы к реальной жизни — а иного и не может быть, — и посмотрите, какие из страшнейших преступников века каялись. Никто. Но абсолютную неспособность к покаянию показали коммунисты и фашисты. Перечитайте материалы Нюрнбергского процесса под одним углом зрения, и вы увидите: у всех «совесть чиста». Возможно, когда-нибудь будет составлена классификация — я в этом уверен — всех главных фюреров XX века, которые были готовы покончить с собой, демонстрируя якобы мужество, на самом деле скрывая невероятный страх и трусость. Нет трусливее людей, чем фюреры.
Ленин однажды сказал: «Мы не хотим кончать самоубийством», имея в виду свободу печати. Вдумайтесь: это и есть абсолютная неспособность воспринимать правду.
Конечно, есть не только общее между коммунизмом и фашизмом, но и нечто особенное. Едва ли не главное отличие в том, что в фашизме, в сущности, нет противоречия между провозглашаемыми целями и средствами для их достижения, в то время как в коммунизме это противоречие вопиет. Фашизм откровеннее, коммунизм — лицемернее. Машины лжи, созданные тем и другим, поразительно схожи, однако механизмы самообмана все-таки различны: у коммунизма этот механизм изощреннее, а потому и опаснее. Не случайно же коммунисты перебили своих больше — несравненно больше! — чем «врагов».
Мы получили страшный результат, доказывающий: чем утопичнее ставится задача, тем больше крови она требует. Коммунизм ставит задачу, заведомо неразрешимую — переделать природу человека. Такую задачу можно решить только насилием. И каждый раз мы попадаемся в эту мышеловку. И окровавленные, изувеченные, выходим из нее.
На чем попались все, кто шел за утопистами, в том числе и за коммунистами-идеалистами? На высоте целей. Порой мне кажется, что вся история человеческих исканий самопеределки — это непрерывное соперничество: кто больше наобещает человечеству благ. Для чего? Для того чтобы высокими целями развязать себе руки на использование низких средств. Чем выше цель, тем скорее можно оправдать самые низкие цели. Потому что цель настолько высока, что ради нее можно идти на все.
Мы находимся сейчас перед серьезной опасностью. И в самом страшном сне не могли увидеть, что на улицах Москвы, других городов России, едва не погибшей от фашизма, он будет поднимать голову. Мы должны отдать себе отчет, что мы виноваты в этом сами. Часто бездумно повторяют фразу: история учит одному, что на ее уроках не учатся ничему. Эта мысль принадлежит Гегелю. В «Философии истории» он писал: каждая эпоха слишком инидивидуальна, чтобы воспринимать опыт других эпох. Я рискну поспорить с Гегелем.
Истины технического, чисто научного порядка могут передаваться от одного поколения другому непосредственно. Истины духовно-нравственные, социальный опыт могут быть приобретены только лично. Духовно-нравственный багаж не передается. Он завоевывается индивидуальным путем. И при смене поколений мы оказываемся в самообманной ловушке, полагая, что наш опыт — это и опыт для идущих вслед за нами. Но настало время, когда потребностью стало передать накопленный опыт. Иначе нам грозит небывалое слияние остатков сталинизма с остатками фашизма, которые при нынешних технических средствах способны на уничтожение всего мира.
На секунду представьте себе, что у Сталина или у Гитлера была бы монополия на атомное оружие. Представьте, что атомная бомба есть у Фиделя Кастро или Ким Ир Сена. Неужели есть малейшее сомнение насчет того, что бы они сделали с атомным оружием? И как ни проклинают демократию и либерализм — заметим, кстати, что и фашизм, и коммунизм питают к ним абсолютную ненависть, — именно демократия спасла и спасет человечество от фашизма.
Еще одно родовое сходство коммунизма и фашизма — это ненависть не просто к либерализму и демократии, но, прежде всего, к интеллигенции.
Если положить рядом «Майн кампф» и, скажем, сталинские «Вопросы ленинизма», волосы встают дыбом. Это плагиат. Авторы друг у друга списывают или независимо открывают нечто общее. Один говорит: партия — это «Орден крестоносцев», другой: партия — это «Орден меченосцев»... Когда-то я был потрясен и другим совпадением: Сталин подарил «Вопросы ленинизма» Кирову с автографом: «Другу, брату родному». Я держал в руках «Майн кампф», подаренный Рэму с таким же посвящением. Потом оба «братьев» своих «шлепнули». Циничные главари наших двух кровнородственных систем сознательно учились друг у друга, восхищались друг другом. Впрочем, это особая тема, и она ждет своего исследования.
Одна из практических задач развенчания мифа кастризма состоит в том, чтобы дать портрет Фиделя Кастро в ряду других тиранов, таких как Саддам Хусейн, Ким Ир Сен (сегодня хотелось бы добивить – и Каддафи –И.З.). Обнаруживается потрясающее тождество. Мы склонны для «чистоты анализа» отбрасывать факт той или иной ненормальности этих людей. Выходы их за пределы нормальной психологии — абсолютно неизбежная закономерность, потому что с самого начала все тираны ставят неосуществимую задачу тотального господства над каждым человеком и над всем человечеством. И поскольку нормально решить эту задачу нельзя в силу ее неразрешимости, дальше просто происходит отбор людей по их ненормальности, по способности вообразить себе, что они-то смогут эту задачу решить.
1993 г.
Как неукоснительно, здорово и весело работает закон понижения качества коммунистической литературы, закон понижения стиля, закон относительного и абсолютного обнищания интеллекта и личности коммунистических вождей: Маркс, Ленин, Сталин и вдруг - Зюганов, Анпилов, Андреева...
1996, 22 июля
Коммунизм зюгановых без:
атеизма,
уничтожения частной собственности,
диктатуры пролетариата,
гражданской войны,
однопартийности,
запрета фракций внутри партии,
удушения свободы печати,
интернационализма, уничтожающего национальности..
Какой же это коммунизм? Какой же это Ленин?
Вы стоите со значительным и скорбным лицом в храме, со свечечкой горящей в руке... А ведь ваш учитель сказал бы вам: «Вы что хотите, чтобы от этой свечечки вспыхнуло пламя революции? Он ведь вас учил: «Материалист возвышает знание материи, природы, отсылая бога и защищающую его философскую сволочь в помойную яму.»
Учил: «Пошло - поповская идеалистическая болтовня о величии христианства (с цитатами из Евангелия!!) Мерзко, вонюче!.. Бога жалко!! Сволочь идеалистическая!!» (это о Гегеле).
Нынче зюгановские коммунисты - ленинцы наперебой благосклонно цитируют веховцев. А Ильич учил, что «Вехи» - это «ведро помоев», вылитых на голову революционной демократии. Так спрашивается, из чьего ведра наливают и что пьют нынче зюгановы? Да Ильич из мавзолея бы выскочил, а Иосиф Виссарионович из могилы, если б узнали они о таком. Ведь на каждый из перечисленных восьми пунктов они отвечали арестом, высылкой а чаще всего - «вышкой», В. М. Н. (Высшая мера наказания).
Так? - Так да не так. Смекнули бы вожди-практики, что вся эта программа - предвыборная, предвластная. Вроде требований свободы печати, выборов в Учредительное собрание, его созыва, вроде лозунга «земля - крестьянам, фабрики - рабочим!» - До Октября. А там... А там - после захвата власти: «Свобода печати? Мы самоубийством кончать не желаем...» И т.п.
Вдруг вспомнил, что работая в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма (1960-1965), я встречался примерно с тридцатью генсеками (членов ПБ было еще больше). Я тогда «пробивал» идею «мирной революции» и, разговаривая с ними, всегда спрашивал (получилась своеобразная анкета-тест): «А что будет, если коммунисты приходят к власти парламентским путем, а потом, при следующих выборах потерпят поражение? Что делать? Ждать новых выборов?» На меня смотрели как на прекраснодушного идиота (и по заслугам): «Как что?! Отдать власть? Да ни за что и никогда!». Ответ был почти единодушным.
Те восемь пунктов, что перечислены выше, не могут быть поняты вне сочетания с клятвами верности принципам и Ленина, и Сталина. Пункты эти (сам по себе превосходные) в устах зюгановцев - лживы и лицемерны. Они вполне отвечают ленинскому наказу брать своих идеологических и политических противников «сверхнаглостью».
А еще призыв учиться у Макиавелли и у С. Нечаева... Все такие словечки (их сотни), вырвавшиеся по очень конкретным случаям, выдают всю суть ленинской политики. Формулы эти универсальны для большевиков. И они абсолютно точно отвечают и такому ленинскому же кредо: «Пора объявить дурачками всех тех, кто верит в политике на слово...» Тут ведь проговорка. По-видимому, Ленин призывает не верить на слово, скажем, кадетским или вообще буржуазным политикам, но это относится и к его собственной политике, рассчитанной на дурачков. Вот такими дурачками и были все те, кто поверил большевикам в их защите свободы печати, в их приверженности Учредительному собранию и пр.
Вот точно так же надо объявить дурачками всех тех, кто поверил зюгановым на слово, кто нашел в тех восьми пунктах тенденцию к социал-демократизму. Истинная тенденция зюгановского коммунизма - ни к какому не социал-демократизму, а к национал-коммунзму. Такой вот коммунистический ренессанс. Перед нами попытка создания небывало ядовитой, чудовищно взрывоопасной смеси. Ее реальная формула: коммунизм + нацизм + православие + ставка на армию. И все это, разумеется, под флагом «патриотизма». Или: нацистско-православно-генеральский коммунизм. Ничего, что генерал Х поносит сегодня коммуниста Y и наоборот. Завтра они скажут: « Одолеем личные, субъективные разногласия ради спасения отечества. Наступим на горло собственной песни, чтобы запеть песню общую...» Да, это будет (если будет) еще небывалая «Песнь песней»... Ее начал, но не успел пропеть И. В. Сталин, о чем больше всего и жалеет Зюганов, заявивший: самая большая беда страны в том, что Сталин слишком рано умер, не успев осуществить задуманное (а задумано было: мировая война и особый, антисемитский ГУЛАГ).
Но довольно о страшном. В заключение - о смешном. Однажды А.Проханов на вопрос телеведущего - кого бы он хотел видеть в Кремле, ответил без обиняков: «Зюганова... Это же Марк Аврелий нашей эпохи»... Напомню: Зюганов недавно (вслед за Марксом и в отличие от Марка Аврелия) стал доктором философии (я читал его диссертацию и как-нибудь расскажу о ней подробнее, это нечто похожее на то чтобы на «деревянный рубль», а на фальшивый «деревянный рубль», который, однако, хотят обменять на настоящие «зеленые»).
Итак, «Зюганов - Марк Аврелий нашей эпохи»... (Философ на императорском троне). Насчет Зюганова все понятно. Но теперь, наконец, понятно становится и насчет Марка Аврелия: это Зюганов древнеримской эпохи (как бы философ-император обрадовался, узнай об этом).
Вот какое дерево в центре Кремля мечтает вырастить нынче А.Проханов.
Не получить бы на трон вместо Марка Аврелия какого-нибудь Калигулу.
КАК МНЕ ОТКРЫВАЛСЯ ГУЛАГ
Встречи с Солженицыным. Из дневников
ПЕРВАЯ (ЗАОЧНАЯ ) ВСТРЕЧА
С СОЛЖЕНИЦЫНЫМ
1962 год Прага.
В декабре 1962 года в Прагу на работу в журнал («Проблемы мира и социализма» - И.З.) приехал мой друг и сокурсник по философскому факультету Леонид Пажитнов. Привез только что опубликованную в «Новом мире» повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Сказал мне: «Говорят о ней разное. Человек и писатель никому не известный. Вот, прочти».
Сразу сел читать. Потрясен.
… «Было пять утра.. пробил у штабного барка... холодно было и некогда долго рукой махать...”
Много раз повторял вслух это начало, вслушиваясь в музыку слов. И тогда пришла мне в голову мысль, что писал ее автор, проговаривая вслух. Когда я уже летом следующего года приехал к Солженицыну в Рязань в тот сарай, где они жили с женой - а как иначе его назвать?- прежде всего, спросил у Александра Исаевича: “Вы это писали вслух?”
- “Наташа, поди сюда! Он догадался”
- “О чем?” - “О том, что я писал вслух”.
Лад языка. Лад повести.. Я вдруг догадался, что это не могло быть не написано невыкричанным. Весь “Один день” - невероятный вопль, крик, никогда еще не существовавший ни в мире, ни на Руси. Крик от имени и во имя вот этого самого, самого- самого малюсенького “человечека”, по которому ни с того, ни с сего проехала история. А он, как раздавленный муравей, вот и корчится. И до сих пор корчится, не понимая ни причин, ни следствий, по которым ему должно вот так до конца дней своих корчиться.
Взять все это, впустить в свой мозг, в свою душу - что значит все это?- а вот это-то и все. Судьбинку человечека, одного одинешенького, вот по которому все это и проехалось, - и то почти невозможно. Почти невозможно. Но я-то хорошо помню эти 4 часа утра, когда я дочитал. И вдруг понял, не понял, не понял, а прочувствовал мгновенно всю чудовищную низость своего, нашего существования.
Вот вам главное о том, что такое “Один день...” Наверное, наверняка эту искру, этот удар вспомнит- жутко радостно- все, кто тогда это прочитал. Боже мой, кто из нас всех сохранил это в себе до нынешних времен?
Понял тогда, что повесть Солженицына - тот оселок, вокруг которого все определится в ближайшие годы. Сел писать.
Благословил меня шеф-редактор журнала А.М. Румянцев, в то время как ответственный секретарь А.И.Соболев и большинство членов редколлегии были настроены категорически против «очернителя» советского строя и социализма. Воспользовавшись отъездом Соболева на Кубу, заручился поддержкой самых умных и, естественно, «ревизионистски» настроенных членов редакции, «протолкнул» статью через редколлегию. Статья о Солженицыне вышла в сентябрьском номере (1964года) журнала «ПМС», практически во второй половине августа и получила немалый резонанс в Москве.
Сегодня эта статья кажется мне неуклюже бронированной в марксистские клише. Но тогда кому-то она показалась «якорем спасения». Александр Трифонович Твардовский, уже предчувствуя конец хрущевской «оттепели», наступление партийно-номенклатурной реставрации и гибели своего детища – журнала «Новый мир», позвонил мне ночью в Прагу и попросил разрешения перепечатать в сентябрьской книжке своего журнала (он всегда входил с опозданием). Статья вышла в сентябрьской книжке «Нового мира» в начале октября, а 16 октября в СССР произошел государственный переворот – сняли Хрущева. Замечу уж кстати, что снятию «кукурузника» радовались многие в редакции, в том числе и «прогрессисты». Я же сразу понял - это начало конца. Теперь пойдет реставрация сталинизма.
17 сентября 1964
Из дневника
Если меня хватит кондрашка или случится еще какая нибудь хреновина: более гениально честного человека на Руси, чем АИС – я за последние 50 лет не знаю.
1967 г.
Из дневника
Я, счастливейший и горчайший человек, который жил в какой-то момент рядышком с ним, то есть буквально в соседней комнате на Чапаевской, и иногда он давал мне страницы из ”Архипелга”... всего несколько. Я обжигался так, что жить дальше не хотелось. Сначала. Но потом, когда я постепенно вникал в эту мощную стихию сопротивления, - оказывалось: жить - долг. По крайней мере - рассказать о том, что с тобой и с другими было. Без этого свидетельства ты не имеешь права уходить на тот свет.
31 января 1968.
Из выступления на вечере памяти А. Платонова в ЦДЛ.
Я должен сказать о гениальном писателе нашей страны Александре Исаевиче Солженицыне, сказать тем людям, которые вешают на него сейчас всевозможные ярлыки: не спешите! Посмотрим еще, где будет он, и где окажетесь вы через 10–20 лет в истории нашей культуры? Ну и, разумеется, вы, ненавистники Солженицына, пытаетесь воскресить Сталина. И тоже ведь ничего не выйдет. Черного кобеля не отмоешь до бела.
2 июня 1989
Михаил Сергеевич! У меня к Вам просьба как к Президенту. Я хотел бы, чтобы наш Съезд поддержал ее. Просьба такая: вернуть российское наше гражданство человеку, который первым осмелился сказать правду о сталинщине, который первый призвал и себя, и нас не лгать, — великому писателю земли русской, великому гуманисту Солженицыну.
Вы нашли общий язык с «железной леди», Вы нашли общий язык с Бушем и Рейганом, Вы нашли общий язык с папой римским — они же не перестали быть антикоммунистами — и нашли этот язык на почве гуманизма. Неужели мы с Солженицыным не найдем на этой почве общий язык?
Подумаем о том, что если бы жили сейчас Пушкин, Достоевский, Толстой, то неужели бы мы с вами им понравились? Ну и что? За это их выслать? Мне кажется, мы не простим себе (мысль не моя, впервые высказана Астафьевым), мы не простим себе никогда, и потомки нам не простят, если мы не сделаем этого.
… и о Лубянке
… Если мы не потеряли память, если не убили совесть, а совесть — это со-весть (весть каждому и о каждом), — то мы должны на Лубянке, на здании том выписать, именно там выписать, имена сорока (точной цифры мы не знаем) миллионов погибших по приказу Лубянки. Если бы кровь та потекла и на Лубянке вытекла, снесло бы ее, Лубянку. И наша честь национальная, социальная, человеческая потребует этого, и я убежден, что так и будет.
10 июля 1992,11.30-14.30, в Вермонте у Солженицына.
Из дневника.
А.И.С. - единственный человек из тех, кого я знаю лично или понаслышке, который выполняет свои планы.
Почему?
1) наиболее реалистичны, тщательно разработаны (планы)
2) невероятная воля (от осознанности призвания), целеустремленность. Слишком много было встреч со смертью.
3) Беспощадное отсечение всего остального, второстепенного.
Уезжаю и опять возникло ощущение начала жизни, ощущение, что все главное - впереди. И (еще главнее) - сегодня. Демократия - свой способ отбора нравственного меньшинства.
12 января 1995
Запись в дневнике после встречи с А.И.Солженицыным
Общее впечатление от Солженицына: по-прежнему лучезарен и деятелен.
Ну, кто из нас совершил ПОДВИГ, равный ему? Кто так одолел самое главное, т. е. – не внешнее, не среду, а самого себя? Кто еще так честно в этом признался и исповедался? Кто затратил столько сил на то, чтобы – искупить свою вину, как она ему предстает?
Все мы юлим перед вечностью, каждый – на свой аршин, откладываем себя на завтра, а смерть застигает нас врасплох, не высказавшихся до конца, да и можно ли до конца, но хотя бы попытаться. Загоняем неистребимую страсть высказаться до конца, до самого-самого конца, и – теряем постепенно самою эту способность - уже и слов, и искренности недостает. И жирком оплыли мысли твои мускулистые. И честные ясные глаза замутились. А все равно, все равно – где-то на донышке совести - и взрыв предстоит, взрыв жажды исповеди и покаяния, и, главное, жажды искупления.
Чем ближе к смерти, тем хитрее, ловчее, т.е. подлее от нее, от смерти, отговариваемся, отбалтываемся …(О.Мандельштам). И вдруг наступает этот, внезапно нежданно-негаданно, а на самом деле столь же ожидаемо этот момент. И вдруг пронзаемся небывалой молнией– дооткладывался, не успел!
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ. ЧЬИ МЫ ДЕТИ ?
Мы – дети не ХХ съезда, а незаконнорожденные дети Ивана Денисовича.
(Выступление на международной конференции в Москве, 1992г.)
Шестидесятники... Термин, конечно, неточный. Но прилипло. Но еще более неуместно прилипло: шестидесятники – дети ХХ съезда. Конечно, ХХ съезд стал взрывом политического и политизированного сознания и самосознания.
Но взрывом духовным, взрывом духовно-религиозного сознания (во многом вначале неосознанно), конечно, стал для нашего поколения – «Один день Ивана Денисовича», а потом «Архипелаг ГУЛАГ», который пришел к нам в «тамиздате» в 70-е годы.
Величайшие художники, мыслители 19 века предвидели, предупреждали: Россия идет в пропасть коммунизма. Но и они же предвидели, предупреждали: коммунизм сам идет в пропасть. Обречен.
Не было страны, более предупрежденной, чем Россия и не было страны более глухой, чем Россия, к этим предупреждениям. И, добавлю с горечью, более (по крайней мере пока) не способной извлечь уроки и свой судьбы. Едва ли не все страны мира многому научились из российского опыта, все, кроме самой России.
Предвидели величайшие мыслители и победу коммунизма, и поражение его. Никто не мог предвидеть, что точка пересечения этих двух линий произойдет в ноябре 1962. Одиннадцатый номер “Нового мира”. “Один день Ивана Денисовича”. Это был какой-то абсолютно невероятный - реквием-марш, моцартовский реквием и, одновременно, Третья Героическая Бетховена.
Так вот, если говорить уж собирательно, массово, то мы, шестидесятники вовсе не “дети ХХ съезда”, а незаконнорожденные дети “Одного дня Ивана Денисовича”, так и не сумевшие распознать своих родителей.
Стоит задуматься над темнотой, буреломами тогдашних наших душ. Только что прочли “Не хлебом единым” Вл. Дудинцева. Путаница была невероятная. Простую, честную, конечно, не до конца идущую информацию о том, что творилось в главной России, т.е. лагерной, мы воспринимали как великое художественное открытие. Но когда вышел “Один день”, очень немногие поняли, что произошло величайшее духовно-художественное религиозное открытие 20 века. Раскрылись, начали, наконец, раскрываться глаза на коммунизм в его человеконенавистнической, богоборческой сущности.
«Все мы вышли из “Шинели”», из шинели гоголевско-башмачкинской... Да забыли об этом, забыли о простом “человечеке”. Все (почти, конечно же, все - Платонов, Зощенко, Мандельштам, Ахматова, Чуковская...) вышли из другой шинели, не гоголевско-башмачкинской, а из сталинско-ежовской...
“Один день Ивана Денисовича” показал нам, наконец, нашу рожу. Естественно, захотелось разбить зеркало. До сих пор разбиваем.
Никогда, я думаю, на столь малом пространстве белой бумаги не был выращен такой страшно-прекрасный художественно-духовный урожай, разве только в “Кроткой” и в “Сне смешного человека” Достоевского (о Новом завете не говорю.)
Может быть, оттого и все беды наши последующие, что мы так до сих пор и не поняли, что мы - дети “Ивана Денисовича”.
Если так и дальше не поймем, - погибнем.
Но есть и трагедия, трагедия двусторонняя: ни Россия современная не поняла до конца своего гения, не захотела понять ее, ни он ее. Быть может, Солженицын одержал преждевременную победу. И оказался неподготовленным к этой победе. Но только не я ему судья. И вообще судей нет (а кто посмеет - осрамится).
Тут я прихожу к жутко печальному подтверждению правоты своей гипотезы (которую я ненавижу), а именно: Мальтус прав. Но только прав не в своей теории о неизбежном голоде физическом (число людей растет в геометрической прогрессии, а продуктов питания - в арифметической), сколько в том, что количество учеников растет в геометрической, а количество учителей во все более отстающей арифметической. А потому ученики призваны пожирать своих учителей... Вдумаемся: за 2 тысячелетия население Земли оставалось почти постоянным, до 20 века. А сейчас только за десятилетие – прибывает новый миллиард. Ну и попробуй, прокорми его, не только и не столько едой, сколько пищей духовно-нравственной.
А.И.С. взвалил на свою горбину тяжесть, после Христа, Толстого и Ницше, - немыслимую. Вынес все, что просто непостижимо для нормальных человеческих коленок. Ждал я от него и жду до сих пор еще одного подвига - исповеди. Но даже если она будет, мир не проснется от своего буйного разврата. Будет так, как Достоевский и Толстой писали в свои дневниках, не сговариваясь: явись Христос сейчас, будут спрашивать у него автографа.
Миссия, которую он взвалил на себя, - непостижима. И тут, даже он столкнулся, сшибился - и нельзя было иначе со старейшей и главнейшей проблемой, в тисках которой мы все и живем - цель, средство, результат...
Почему у поколения шестидесятников столь долго сохранялись иллюзии насчет Ленина?
После 56-го года (XX съезд) у большинства моих сверстников открылись глаза на Сталина, но, как ни странно, еще больше ослепли на Ленина. От Хрущева до Горбачева (19 лет) продолжался период, который в целом был назван «возвращением к ленинским нормам». Спасались красивыми цитатами из Ленина. И многие свято верили в его слова – «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Вдохновенно повторяли вслед за ним: «Ни слова на веру, ни слова против совести». А заговорил он так, потому что «все дозволенно», «право на бесчестье» (Достоевский) - это относилось раньше только к классовому врагу. Но вдруг выяснилось, что это заразило и партию. Он сам и заразил, а потом спохватился. Да поздно уже было. Те слова мы повторяли, другим же его словам не придавали значения: «Тех, кто верит политика на слово, надо объявить дурачками», имея в виду опять, что это относится лишь к политикам классовых врагов, а не к своим. А поэтому и сами оказались дурачками.
Да, освобождение от новых мифов шло трудно. Почему?
У каждого, конечно, свой ответ. Здесь я скажу лишь о себе.
Во-первых, тогда не хватало фактов, а еще больше их понимания: ведь дрессировали-то нас идеологически с самого детства, развивая нюх на «классовый инстинкт». Гвозди, шурупы идейные вбивали, ввинчивали в наши головы. Каждый день. По шляпку. Это может понять только тот, кто это испытал, и кто их вытащил, вывинтил, выдрал с кровью. Ногти, пальцы ломали, цепляясь за это восстановление «ленинских норм». Безболезненно и быстро сделать это было просто невозможно.
Во-вторых, мои родные со стороны отца и мамы (это человек десять дядьев и теток) все оказались людьми необычайно честными, щедрыми и мужественными все, так или иначе, поддерживали советскую власть, почти все были коммунистами, отец так даже,— ленинского призыва. Их личная совестливость, благородство заслоняли принципиальную бессовестность ленинизма. Из них убили при Сталине троих, сидели тоже трое, остальные, соответственно, преследовались властями и были ущемлены в правах.
В-третьих, когда для нас открылось так называемое «Завещание» Ленина, то ведь открылось-то оно прямо как завещание антисталинское. Не успел, дескать, Ленин его, Сталина, снять, зато Сталин сажал и расстреливал всех, кто об этом завещании знал...
Вот все слилось, склеилось, перепуталось и далеко не сразу распуталось.
Но главная аберрация была все-таки в том, что я смотрел (многие смотрели) на марксизм, на это «единственно верное учение», как на Солнце, вокруг которого все-все и вращается, вся мировая культура, философия, наука... И вдруг (у меня на это «вдруг» - честно и страшно сказать – ушло почти четверть века) оказалось, что оно, само это учение, никакое не Солнце, оно вмешалось, ворвалось в нашу жизнь, в нашу культуру какой-то чудовищной кометой, все перекорежило, и еще удивительно, что мы остались пока живы... В этом свете вдруг прозреваешь и на старые, давным-давно известные факты, а уж новые становятся и того ослепительнее.
Открылся, наконец, л и т е р а т у р н ы й Архипелаг ГУЛАГ. Арестованные книги («хранить вечно») освободились, расстрелянные – воскресли, появились новые. Вдуматься, вникнуть только: 70 лет целый народ был отрезан от всего самого лучшего из своего наследства культурного и мирового. Никогда еще в истории человечества не падало «на душу населения» за столь короткое время такая сверхизбыточная информация, и не надо питать иллюзии, что она, информация эта может быть воспринята и понята сразу…
Да еще небывалым счастьем для меня оказалось знакомство с А.И. Солженицыным, который ведь тоже на некоторое время поддался бешенству безумия революции, но выдрался из него (как и Достоевский) в свое время и из своего коммунизма всего за 10-11 лет.
«Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению. Но откудова же вы это вывели? Я вам прямо не поверю и скажу напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям. И вы, конечно, уж ничем меня не опровергнете. <...> Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?»
Ф. Достоевский
Случилось так, что новое издание романа «Бесы» совпадает с первой публикацией у нас «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына8. Синхронность эта, конечно, случайна, хотя давно уже было ясно, что встреча этих двух гениальных произведений неизбежна.
Мне удалось прочитать в рукописи несколько глав «Архипелага» еще в 1967 году (хотел написать: посчастливилось — нельзя, как нельзя сказать — посчастливилось получить похоронку, а здесь — похоронку больше чем на сорок миллионов твоих соотечественников, твоих современников). И тогда же я обозначил для себя: От «Бесов» до «Архипелага ГУЛАГ» (а еще раньше, в 63-м, обозначил так: От «Бесов» до «Одного дня Ивана Денисовича»). Но ни тогда, ни даже год назад не ожидал, что можно будет вот так открыто сказать: отныне эти два художественных исследования одного и того же, в сущности, явления будут сопряжены навечно. Да, так вышло, что «Бесы», к величайшему нашему несчастью, оказались непостижимы без «Архипелага ГУЛАГ», Но и «Архипелаг ГУЛАГ» кровно связан с «Бесами». Прочитайте, перечитайте, сравните их сами — и вы убедитесь в этом.
Между этими двумя книгами — около ста лет (1872–1967). Они знаменуют какой-то целый законченный цикл не только русской, но и всемирной истории, цикл, главным признаком которого явилось беспрецедентное понижение цены жизни, цены жизни человека, цены жизни народов, — якобы во имя небывалого счастья в будущем. Сравните из черновиков к «Бесам» — Петруша Верховенский: «Если б возможно было половину перевешать, я бы очень был рад, остальное пойдет в материал и составит новый народ»; «На растопку...»; «На растопку...»; «Матерьял!»; «Всех оседлать и поехать»; «Коли же не согласятся — опять резать их будут, и тем лучше».
Одна книга — у самого входа в ад коммунистического тоталитаризма. Другая — на выходе из этого ада.
Одна — страшный крик предупреждения о страшном бедствии. Другая — «опись» результатов этого бедствия.
В одной — «трихины» духовно-нравственного СПИДа мы видим под микроскопом, В другой — перед нами картина эпидемии, порожденной этими самыми «трихинами» и охватившей десятки, сотни миллионов людей.
Прочитайте, перечитайте, сравните эти две книги, и от их столкновения высекутся все новые и новые трудные, беспощадные мысли, и, может быть, главная среди них: при такой-то цене — такие результаты?! Что же это за убеждения такие, которые требуют такой цены, которые и приводят к таким результатам? Что же это за принципы и что же это за люди, которые, по известному выражению, «не хотят поступиться» такими принципами?..
А между этими двумя книгами — еще целая библиотека страшных и мужественных произведений («Мы» Замятина, «Чевенгур», «Котлован» Платонова, «Новый смелый мир» Хаксли, «1984», «Ферма животных» Оруэлла и т. п.), о которых можно сказать; все они вышли из «Бесов».
Я даже убежден, что не может быть сегодня сколько-нибудь основательного политика и политолога, философа и социолога, не может быть просто человека, на самом деле мучающегося судьбами своего народа, человечества, — не может их быть без прохождения страшного университета — «Бесов» и «Архипелага ГУЛАГ». Причем никакой ускоренный курс здесь не поможет: о слишком серьезных вещах идет речь.
Рассказывают: А. И. Солженицын раз в год облачается в свои лагерные одежды и так проводит весь день. Даже он боится забыть ГУЛАГ!
И Ахматова писала:
...и в смерти блаженной боюсь
Забыть
громыхание черных «марусь»,
Забыть,
как постылая хлопала дверь
И выла
старуха, как раненый зверь...
Убежден: эти две книги должны быть прочитаны впервые в возрасте подростковом или юношеском: прививка против бесовщины на всю жизнь.
Наше поколение прочитало и поняло их слишком, слишком поздно.
Навсегда запомнились мне ночи конца 50-х годов. Только что прошел XX съезд. Для меня и большинства моих друзей это было настоящее потрясение. А один очень близкий мне человек (ныне уже покойный), классический русский интеллигент, типичный Степан Трофимович Верховенский, доктор химических наук, профессор, спасавшийся от домашних и политических невзгод в Достоевском, Лескове, Чехове, сказал мне, грустно усмехнувшись: «Так ведь все это есть в «Бесах»… Меня в 36-м чуть не посадили за одно чтение этого романа. Кто-то донес...»
Да, это были страшные и просвещающие ночи: мы читали «Бесов», читали и черновики к роману.
Мы читали о таких, как Петруша Верховенский: «Все они, от неумения вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве». Читали и вспоминали процессы — Шахтинскпй, Промпартии...
Мы читали: «Мор скота, например. Слухи, что подсыпают и поджигают. Вообще хорошенькие словечки, что подсыпают и поджигают» (11; 278)9. Читали и вспоминали: и у нас эти «хорошенькие словечки» были на слуху, гигантской осиной тучей окутывали, кусали они миллионы людей и те впадали в небывалое массовое безумие от этих «хорошеньких словечек».
Можно ли было не вспомнить о «чрезвычайных тройках», прочитав: «О, у них на всё смертная казнь и всё на предписаниях, на бумаге с печатями, три с половиной человека подписывают»?
А с какими мыслями должно было читаться такое (слова Петруши после убийства Шатова). «Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. Этого вы не должны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых». Шатовых много тысяч, а других — много миллионов.
А ночной визит Эркеля к Шатову, в сущности, арест? И опять-таки, сколько миллионов таких визитов он предвещал?
И, понятно, прямо на Сталина «замыкались» слова о Петруше: «Кто не согласен с ним, тот у него подкуплен» (11; 106).
И на что, как не на сталинскую коллективизацию, должны были «замкнуться» такие слова: «Вы не постыдились написать, что вы даете 80 миллионам народу только несколько дней, чтоб он снес вам свое имущество, бросил детей, поругал церкви и записался в артели» (11; 110).
А восторг Петра Верховенского перед Шигалевым: «У него хорошо в тетради, у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! <...> Цицерону отрезывается язык. Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, вот шигалевщина!»
Мы читали, читали и — не верили своим глазам: все это мы знали, все это слишком хорошо помнилось и слишком, оказывается, не понималось. Мы читали и перебивали друг друга чуть не на каждой странице: «Не может быть! Не может быть! Откуда он это знал?»
А потом — сколько раз эти же слова повторялись и о Китае, и о Кампучии, и о Румынии, и о Корее (северной), и о Кубе, а еще о Японии, Италии (по поводу беснования тамошних «красных»).
Но все-таки — это было еще потрясение больше, так сказать, политическое, чем духовное.
Конечно, нет сомнения: непосредственно социально-политические интерпретации романа очень, очень важны и неизбежны (и для самого Достоевского были очень важны и неизбежны). Конечно, они очень много дают для нашего просвещения, для понимания романа. И однако же это — самое малое, что может нам дать роман, самое малое, что в нем заключено, что должны мы из него извлечь (как и из «Архипелага ГУЛаг»).
Вероятно, мы находимся еще лишь в преддверии понимания всего смысла «Бесов», всей гениальной поэтики этого романа. Вот когда рассмотрим его в большом контексте русской и мировой литературы, культуры вообще (работа надолго и на многих), когда включим роман в развивающуюся систему образов, символов, — знаков — в систему всего языка этой литературы, этой культуры, — вот тогда лишь, наверное, приоткроется нам наконец самое тайное, самое пронзительное в нем, тогда поражены будем (и не раз), какие глубокие, крепкие фольклорные, народные корни у романа, по каким звездам он сориентирован, какая могучая в нем сила животворной, спасительной традиции, традиции вековечного духовного отпора бесовщине, какая прибавка в нем к этой силе и как она, сила эта, начнет расти в нас. Но и сегодня пора к «Бесам» (и к «Архипелагу ГУЛаг») отнести слова Достоевского: «Самоуважение нам нужно, а не самооплевание». (26; 31) .
Может быть, и во всей мировой литературе нет книг более страшных, мрачных и, кажется, безысходных, чем «Бесы» и «Архипелаг ГУЛАГ». Наверное, это так и есть, если только зачеркнуть одно слово — «безысходность». Отдадим себе ясный отчет: обе книги созданы руками человеческими. «Бесы» — ведь это уже победа, духовная победа над бесами, пусть победа пока одного человека, одного художника. То же самое надо сказать и об «Архипелаге ГУЛАГ». То же самое и плюс еще кое-что. Речь не только о личном тюремно-каторжном опыте А. И. Солженицына, но и о том, что «Архипелаг ГУЛАГ» написан как прямой вызов одного человека, одной личности — целой системе. Мало и этого. «Архипелаг» написан человеком, за которым эта система организовала настоящую погоню, на которого устроила настоящую облаву. И вот, во время этой-то облавы, этой погони и был написан «Архипелаг ГУЛАГ».
Обе книги несут в себе небывалый положительный заряд, небывалую энергию света, подвига, спасения.
Это действительно две победы, иначе — откуда взялась такая ненависть к этим книгам, к этим авторам со стороны бесов? Иначе откуда взялся такой низкий страх? Работают, работают «Бесы», боятся, боятся их бесы. А теперь еще заработал «Архипелаг ГУЛАГ», теперь еще и его надо бояться, теперь еще и его надо ненавидеть.
Да, две духовные победы — на входе в ад и на выходе из него. И теперь только от нас самих зависит — сделать эти победы двух великих людей — победой своей, общей. Но разве не ради этого они и шли на свой подвиг? И в чем же еще другом черпать нам силы, как не в живом примере, как не в воплощенном слове правды? Нельзя без этого ни жить, ни выжить!
Теперь — наша очередь понять: «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?» (27; 56).
Теперь — наша очередь взять свои убеждения и проверить их на истинность, на мужество, на честность, на совесть — на человечность: что выжило в горниле опыта, запечатленного в «Бесах» и «Архипелаге ГУЛАГ», а что — сгорело дотла?
Сколько самодовольных догм, «абсолютно истинных» вчера, мы уже недосчитались сегодня от их столкновения с реальностью и скольких недосчитаем завтра, если будем живы, а точнее — обязаны недосчитаться, чтобы — жить.
ПОХОД, ЗАДУМАННЫЙ
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ…
От «Одного дня Ивана Денисовича»
до «Красного колеса»
Знаете ли вы, сколь может быть силен один человек?
Ф.Достоевский
Когда в ноябре 1962-го был опубликован «Один день Ивана Денисовича», потрясение – и у нас, и во всем мире – было беспримерным. Пожалуй, никогда еще первое произведение безвестного доселе автора не производило столь всеобщего и оглушающего впечатления, столь небывалого и непосредственного отклика.
Но далеко не сразу и далеко не все (даже и до сих пор) поняли, что произошла не какая-то социально-политическая сенсация разоблачения сталинизма, а настоящий взрыв духовно-нравственного-религиозного сознания. Словно взрыв первой атомной бомбы, только несущей не смерть, а освобождение, воскрешение, жизнь.
И уж совсем никто не догадывался, что это – лишь п е р в ы й («разведывательный») ход в небывалой шахматной партии, рассчитанной на многие сотни ходов. Точнее сказать: сделан лишь первый шаг неслыханного многодесятилетнего похода.
Никто не догадывался, – тем более! – что у автора уже был выработан не поверхностно-политический, а мировоззренчески-духовный, стратегический план этого похода одного против многомиллионной армии тех, кого Достоевский назвал «бесами», создавшими, казалось, абсолютно неприступную крепость-систему. В то время как армия самого полководца, все его оружие было только одно – С Л О В О, КНИГИ.
Никто не знал, что план этот начал грезиться ему еще с 1936 –го…
Наконец, никто не знал, что слова – книги эти (около десяти) были уже написаны к ноябрю 1962-го. Что уже был задуман «Раковый корпус» (1955), что задуман и начат был «Архипелаг ГУЛАГ» (1958), что в 1963 началась работа и над «Красным колесом» (название определится в 1965-м).
С десяток полков и батальонов стояли наготове в резерве, ждали только своего часа-приказа выступать, а главные ударные армии («Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо») начали формироваться…
Никто, никто не знал, кроме самого А.И.Солженицына.
О, если б «они» только знали обо всем этом. Спасала (до поры до времени) жесточайшая конспирация.
Некоторые «наверху», не разобравшись, сдуру, чуть не пожаловали ему … Ленинскую премию (в апреле 1964-го). Вот была бы потеха – сразу, если бы он отказался, в чем лично я сомневаюсь: премия эта на какое-то время прикрыла бы его, оттянула или смягчила будущую неизбежную травлю. А если б даже дали, а он взял, потеха-скандал случился бы позже, когда дарители сообразили бы, наконец, что они наступили на грабли. Так или иначе, – не дали, но м о г л и дать.
Тем не менее, Солженицын начал обрастать добровольными помощниками, не говоря о десятках, если не сотнях тысяч сторонников.
Но когда в октябре 1964 года произошел государственный переворот (сняли Хрущева), и в Беловежской пуще происходило по этому поводу совещание «братских партий», некоторые участники высказались за то, чтобы не было больше никаких Иванов Денисовичей и «апологетических» статей о Солженицыне. Спохватились…
Начиная с середины 60-х были уже запреты на сданные в редакции книги, арест архивов, непрерывная слежка, было покушение, наконец, арест самого А.И. и высылка его за границу (12-13 февраля 1974-го).
Но несмотря ни на что, главная цель была достигнута.
В июле 1990-го Солженицын мог, наконец, сказать: «Часы коммунизма свое отбили».
Убежден: без А. И. Солженицына они протикали бы подольше.
Однако сразу же за приведенными словами, в разгар нарастающей эйфории от приближавшейся победы он сказал и другие слова: «Но бетонная постройка еще не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под ее развалинами».
ОБ ИСПОВЕДИ И ПОКАЯНИИ
Исполни на себя прежде, чем других заставлять,
- вот в чем вся тайна первого шага. Ф.Достоевский.
Слишком известно, что Александр Исаевич призвал народ, страну к покаянию. Не менее известно и то, что «народ безмолвствовал» и безмолвствует. Лишь очень немногие откликнулись.
Но прежде чем и для того, чтобы решиться на такой призыв, А.И. Солженицын исполнил его сам. Ведь начинал он сознательную деятельность с очищения ленинизма от сталинщины, а на окончательный разрыв с «самым передовым учением» ушло, вероятно, лет 10, не меньше, если не больше.
У него нет «Исповеди», как у Августина Блаженного, Руссо или Толстого. У него, как у Достоевского: отдельные ноты, аккорды исповеди-покаяния звучат прямо во многих его публицистических выступлениях, а отраженно, косвенно, - и в художественных. Я попытался собрать их воедино и убедился, что это – лейтмотив, если угодно – целая симфония-книга, искренняя, беспощадная к себе, мужественная и мучительная. Вот, в сущности, ее финал:
«Оглядываясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все же прорывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна <...> Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между партиями — она проходит через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренимый уголок зла. С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.
С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра) — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство». («Архипелаг ГУЛАГ» — часть IV, глава 1).
Достоевский тоже был своего рода социалистом, даже говорил: «Нечаевцем я, пожалуй, мог бы быть. Нечаевым – ни за что». В споре с одним оппонентом он и себя имел в виду: «Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению. Но откудова же вы это вывели? Я вам прямо не поверю и скажу, напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям… Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна – Христос… Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного» (Ф.М.Достоевский ПСС. Т 27, с.85,86). На перемену убеждений у него, Достоевского, тоже ушло около 10 лет (у Августина Блаженного, насколько я помню – 14 лет).
Сравнение этих пяти исповедей (Августина Блаженного, Руссо, Достоевского, Толстого и Солженицына) плодотворно необычайно.
Как каждый отдельный человек выходит из безнадежной или почти безнадежной ситуации? Либо сдается, тонет, либо наглеет – «сегодня ты, а завтра я». А третьи: «ищи не в селе - ищи в себе». А по Достоевскому, и не только по нему, и не только с него, а до и после: что такое народ? Что такое нация? Это просто народная, национальная личность и, стало быть, из грехов своих она должна выкарабкиваться точно так же, как отдельная личность. Только еще более ответственно. То есть: взять всю вину на себя и долго, тихо, дисциплинированно выкарабкиваться.
ГОЛОС СОЛЖЕНИЦЫНА СЕГОДНЯ
Вот что сейчас мучит меня больше всего. Вот вопрос, который становится для меня сегодня самым главным, ответ на который я ищу, и то нахожу, а то теряю.
Почему два самых совестливых, честных, мужественных голоса России – Александра Солженицына и Андрея Сахарова еле-еле слышны в ней сегодня?
Никто не посеял в нас таких надежд на возрождение (потому что никто не сказал нам такой правды о нас самих), как А. И. Солженицын и (чуть позже) А .Д. Сахаров. И после того, как, казалось, коммунизм крахнул, после того, как все, или почти все произошло по предвидению первого и (отчасти) – второго, Россия остается глухой, слепой и, в сущности, немой по отношению к А.И.Солженицыну.
Вот вам «предельный» образ: несколько лет назад Солженицын выступал в Государственной Думе. На всю страну, на весь мир говорит о наших проблемах и возможных путях их решения. И что? О, если бы вы это видели и слышали! Тупое молчание и … смешки. И почти никакой поддержки ему со стороны «общественности».
Так в чем же причины? Они, по-моему, общие, а не конкретные.
Когда Солженицына читали в самиздате, из-под полы, с опаской передавая друг другу на ночь истертые листочки, - сколько было людей, жаждущих испить из этого чистейшего родника и передать эти капли другим? И сколько не читали и не могли его читать? Когда-нибудь это будет и подсчитано. Когда-нибудь будет определена эта «пропорция». Читали - куда меньше одного процента нашего населения. Да еще распределите это по всей стране: восемь десятых из них приходилось – на Москву, одна десятая – на будущий Санкт-Петербург и еще одна десятая – на весь океан страны.
Это тогда. А сейчас, когда все-все доступно?..
Истина зарождается в одном человеке и поначалу принимается другими за «ересь», но потом признается. Так было и с христианством и с Коперником... Истина продвигается, ею проникаются сначала крайне медленно, черепашьими темпами, потом вдруг начинаются взрывы-полеты, а затем и снова падения в неверие… Долгий-долгий, мучительный процесс. И если знать, сколько сил, трудов, мучений – времени даже! – первые затратили на то, чтобы дорыться, докопаться, доползти, докарабкаться, долететь до первоначальной истины, то чего нам ожидать от тех, которые не проделали этот путь?
Если люди, профессионально, по призванию занимающиеся поисками истины, подходят, приходят к ней далеко-далеко не сразу, многими годами, порой десятилетиями, то что можно – и должно - ожидать от людей неподготовленных, не имеющих ни времени, ни умения, ни желания «просвещаться»? Они могут разом, порывом отказаться от прежних заблуждений и даже восторженно. Надолго ли? «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены в н у т р и. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы… Математика передается постепенно; отчего же конечные выводы мысли о социологии могут прививаться, как оспа, или вливаться в мозги так, как вливают лошадям сразу лекарство в рот?» (А.Герцен).
Изголодавшегося человека, чтобы спасти его, полезнее всего оградить в приеме пищи (я говорю и о пище духовной). Иначе, медицинский факт, – у него будет заворот кишок. Вот точно также у нас происходит сейчас заворот мозгов и, страшно сказать, заворот душ.
Сегодня в России обвалом обрушиваются на нас оглушающие события. Газеты, телевидение, радио забили литературу, особенно серьезную. Если сегодня 49 процентов населения России (последние данные ВЦИОМ) по-прежнему повторяют (не зная того) слова первого замысла главного романа А.И.С. «Люби революцию!» (да, да, Октябрьскую!), если треть самого несчастного, самого забитого от этой революции народа голосуют за коммунистов, если предыдущий состав Госдумы категорически отказался осудить компартию за ее «жертвоприношения», проголосовал против оказания помощи жертвам ленинско-сталинских репрессий (факт!!!), то чему ж тут удивляться? Чему удивляться, когда в голову, в темечко еще не заросшее наших детей вбивались гвоздики ненависти, зависти, злобы и «чистоты», а в уже окаменевшие черепа взрослых вбивались гвозди толщиной в палец, ввинчивались болты марксистко-ленинского мировоззрения? И речь шла о десятках миллионов! Как вытащить эти гвозди, какими щипцами? Как вывинтить эти болты, когда лучшие из лучших потратили на это едва ли не десятилетия. А все эти гвозди – болты – могут быть вытащены не иначе, как только – собственными, твоими, моими, нашими усилиями.
Вещь - абсолютно небывалая: страна наша, закодированная, зазомбированная, десятилетия отрезанная насильственно от культуры собственной и мировой, вдруг разом получила возможность также разом и прочитать, прочувствовать, продумать всю ту русскую и мировую литературу, которой она была лишена эти десятилетия. Такого еще не бывало никогда. Тут у кого угодно голова кругом пойдет.
Сколько требуется времени на чтение «Дон Кихота», «Фауста», Пушкина, Достоевского, Толстого… Я настаиваю – времени просто прочитать. Я настаиваю еще больше - а сколько времени, чтобы попытаться понять. Вдуматься надо только: безводность духовная, безхлебность, безвоздушность… И вдруг – разом: ВСЕ!
А ведь речь идет не только о настоящей мировой и русской культурой, но и о небывалой атаке масс - культуры.
Главная опасность для человека изголодавшегося, изжаждавшегося, зачумленного, забывшего, что такое воздух с чистыми лесами, полями и реками, привыкшего к воздуху зачумленному, к пище отравленной, - перейти к совершенно другому немедленно и без всякой подготовки… Объедение после голодухи – опасность смертельная.
Ну, и, конечно, при том бедственном положении, в котором находится сейчас Россия, подавляющему большинству просто не до истинной культуры, не до чтения «Бесов», ни до «Архипелага ГУЛАГ», ни до многотомного «Красного колеса» (провести бы социологическую анкету: сколько людей прочитали эти книги?).
Говорю: нельзя юноше, обдумывающему житье, нельзя вступать в жизнь, не прочитав «Бесов» и «Архипелаг ГУЛАГ». Нельзя-то нельзя, а вступают, многие даже не подозревая о самом существовании этих книг. Не до этого …
Вот в чем трагедия.
АНДРЕЙ САХАРОВ.
РОССИЯ НЕ ВЗЛЕТИТ НА ОДНОМ КРЫЛЕ
Если неповторим каждый человек как личность, то (может быть, тем более) неповторима и каждая нация, "народная личность" (Ф.Достоевский).
Понять сущность, т.е. предназначение каждой нации невозможно без обращения к ее гениям, прежде всего - духовно-нравственным. Они - воплощение идеала, они - реализованный идеал, насколько вообще возможно его земное воплощение, его земная реализация.
Первая встреча Сахарова и Солженицына была заочной и невероятно драматичной. Сахаров работал над ядерным оружием, считая это своим "патриотическим долгом", а "антипатриот" Иннокентий Володин, герой романа "В круге первом" позвонил с уличного телефона в посольство США, предупредив, что советский агент подобрался к американским ядерным секретам. Время действия - 1949 год.
26 лет спустя, 9 октября 1975 г. А.И. Солженицын поздравит А. Д. Сахарова с Нобелевской премией мира (на которую он сам его и выдвигал).
История нам подарила знамение в лице этих двух людей. В них нашло наиболее точное, полное, благородное воплощение того, что названо (я, конечно, кавычу слова) "западничеством" и "славянофильством". Подчеркну, однако (я сам слышал это от него), что Александр Исаевич - против такого обозначения себя, "хоть и с десятью кавычками".
И вот уж поистине «ирония истории»: как коммунистический режим распорядился на время судьбой наших гениев. Одного («славянофила») - посылают на Запад, другого - «западника» - в другую сторону, в ссылку, на восток, в Нижний Новгород.
Я попытался проследить их отношения (отчасти и неофициальные) в эволюции. Поражает не только благородство этих отношений, но и их "умягчение", вместо таранного самоубийственного столкновения, которое наблюдаем мы сегодня в нашей политической, идейной борьбе.
Один - ученый, декартовской традиции, второй - художник. Два полушария мозга. Один (Солженицын) - истово верующий, второй (Сахаров) - если вспомнить слова Версилова из «Подростка», да и самого Достоевского, - деист, отдающий главную дань Неизвестному. Физик не может не знать, что всегда есть Неизвестное. Какой "выгодный", какой счастливый, лучше сказать, и многообещающий контрапункт.
Приведу пример, который в одной из наших бесед с Андреем Дмитриевичем, кажется, убедил его.
У Достоевского есть одно признание (в феврале 1854г.). Он, только что вырвался из каторги, стал служить, впервые ему разрешено читать и писать. В это время он пишет потрясающее письмо жене декабриста Фонвизина, которая подарила ему за 4-5 лет до этого Евангелие, с которым он не расставался всю жизнь. Ей он и делает такое признание: "Я - дитя века сомнения и неверия, и знаю это до гробовой доски. В моей душе жажда верить тем больше, чем больше доводов противного". Вот это - высшее его самосознание. Тут уже запрограммирована незаконченность борьбы. Я сформулирую это так: это не то противоречие, которым мы обычно с вами живем, противоречие между плюсом и минусом погодными, которые есть просто слякоть. Плюс и минус в башке - это слякоть в башке. А у него - минус бесконечность, плюс бесконечность. И вот на этих качелях, в этой игре великой - он Сверхтуз (слово самого Достоевского). Что это? Высшая степень самосознания.
Оба наших гения - и Сахаров и Солженицын- являют собой высшую степень самосознания (как одна из граней определения) человека, его дара, его призвания, его судьбы.
Сахаров и Солженицын воплотили в себе любимую мысль Достоевского: "У русских две родины - и Россия, и Европа". Россия - двукорнева. Россия - двукрыла. Россия может взрасти, возродиться только из двух корней, может взлететь только на двух крыльях.
Отношения между Андреем Дмитриевичем и Александром Исаевичем, по-моему, точнее, лучше всего могут быть определены таким музыкальным термином, как контрапункт. Ведь контрапункт в музыке - это такое столкновение разных противоположных мелодий, "тем", которое не убивает, а проясняет, высвечивает эти мелодии, эти темы, а в итоге - совершенно новая гармония.
Вот эта постоянная тенденция улучшения их отношений, красота полемики, ее благородство - и является для нас, может быть, последним предупреждением, последним шансом на спасение.
Интересно и знаменательно: у них, в основном, одни и те же враги, одни и те же друзья. В Сахарове и Солженицыне выкристаллизовалось, воплотилось, реализовалось наше земное предназначение. Можно и должно проследить становление, развитие, оформление этих двух тенденций на протяжении всей истории России, а также их столкновение до самоубийственного антагонизма, их примирение до спасительной гармонии. А если взять только по одному имени для примера такой гармонии в искусстве и в науке, - то эти имена - Пушкин, конечно (вообще единственно нормальный человек на Руси), тут - это сверхочевидно - и никакого спора не может быть, и Н.Вавилов, чья уникальная коллекция злаков Земли столь же символична, как всемирная отзывчивость Пушкина. Ну, а за Пушкиным следуют Гоголь и Тургенев, Достоевский и Герцен, Ахматова и Пастернак, Толстой и Блок, Волошин и Цветаева... Попробуйте представить их без Европы! Перед Н. Вавиловым был Ломоносов, а рядом - И. Павлов, В. Вернадский, П. Капица. В них - историческое величие России (а не в каких-то озлобленных дурачках-пигмеях, которых и называть-то не хочется). Вдумаемся, вспомним, раскопаем и - сами удивимся еще, насколько длинна, глубока и действительно животворна, спасительна эта традиция.
Вдруг вспомнилось, как на первом вечере памяти Сахарова в Доме кино, где я имел честь председательствовать, его ученик, тоже сидевший, рассказывал, как Сахаров любил Пушкина, как знал его насквозь. Это же неслучайно. Как неслучайно появление христианства с восточной прививкой. Не случайно, что Киевская Русь была Русь. Была тогда одна из самых образованнейших стран в Европе (по грамотности). Потом корова языком татарским слизала это. Потом началось восстановление культуры. Наконец, когда «грамотная» прослойка возникла и количественно и качественно достаточно существенная, появились западники и славянофилы, о которых Герцен писал: "... у нас билось одно сердце, смотрели в разные стороны".
Достоевский полярно колебался. И одновременно: а я считаю весь спор между западниками и славянофилами одним страшным недоразумением.
Потом этот контрапункт западничества - славянофильства как бы ушел в другие формы и незамечен, хотя весь коммунизм, 78 проклятых коммунистических лет (если не верить эпохи по тому, что она сама о себе говорит...) - это было торжество славянофильства.
У Солженицына - доминанта правоты, владения истиной и в этом смысле своего рода доминанта "превосходства", а у Сахарова прирожденный такт и демократизм, может быть даже дворянский демократизм в лучшем смысле слова "дворянский". Традиции семьи. Отец его в 1907-1909 годах был одним из организаторов комитетов по отмене смертной казни. Начинали еще Л.Толстой, В. Соловьев. Стало быть, эта семейная традиция, это родное. Главное, что у него не было никакой разницы, ни деланной, ни натужной в отношении к людям, - будь это академик, или самый простой человек.
Вторжение его в политику было ошеломляющее. Ученый-атомщик. Арзамас-16. Абсолютная изоляция. Создатель водородной бомбы. Трижды Герой Социалистического труда...
Я как-то говорил Андрею Дмитриевичу, а он смеялся: вот вы сидели у себя там в элитной «шарашке», решали, считали о потом выглянули в окошко, кристаллическую сферу пробили и, как Радищев, -"взглянул вокруг себя, душа моя страданиями человеческими уязвлена стала".
Душа-то была, она была просто заморожена. И вдруг душа оттаяла. И он стал неистов. И откуда взялись эти силы ездить по судам, вызволять людей, куда-то в Сибирь в райцентр, переть 12 км пешком - туда, куда иначе как вертолетом было не добраться. Полетел в Вильнюс, где судили Сергея Ковалева...
Путь Александра Исаевича был несравненно страшнее. Сахаров - это прозревший отличник по всем статьям, лауреат- перелауреат. В быту - человек абсолютно благополучный, впрочем быт его никогда не интересовал.
...Если взять за основу 1956 год, эволюция и у Сахарова и у Солженицына шла в одном направлении, но с чрезвычайным ускорением у Александра Исаевича, который к 1964г. (когда я с ним познакомился), а теперь ясно, что много раньше, - никаких иллюзий насчет ленинизма и коммунизма не питал. Иллюзии у него кончились уже в лагерях. А у Сахарова иллюзии были до самого конца, иллюзии горбачевские, иллюзии социализма с человеческим лицом. Сама идея конвергенции - это идея та же.
Но остается очень важная вещь. Не просто их счастливое несовпадение ученого и художника, рационалиста и интуитивиста, деиста и истово верующего. Сравнение их пути.
Но самое главное - это их взаимоотношение. Эта моя любимая идея: идеал спора, идеал выяснения истины. Это не таранное столкновение поездов, ракет, а то, что названо в музыке - контрапункт. Тема против темы, мелодия - против мелодии. Они взрываются, но - новым познанием. Это не 1+1=2, это 1+1= бесконечность прорыва. И поэтому то, что можно прекраснодушно называть терпимостью, уважительностью, выслушиванием другого - это все более явная закономерность - как я ее, по крайней мере на сегодняшний день выявил, это постоянное одергивание себя, сам тон - все время протягивают друг другу руки. В самые трудные моменты, когда надругались над Сахаровым, Солженицын заступается и - наоборот.
Да, это элементарно, но тем не менее. Во-вторых, как мне кажется, начиналось все со скрытой сдержанности Солженицына, который относился к Сахарову примерно (с тысячей оговорок), как и Горбачев: наивный гениальный простодушный человек, ну просто ... ребенок.
А ведь этот ребенок и в политике сделал больше, чем все академические институты.
У Солженицына всегда была сдержанная снисходительность по отношению к Сахарову, к человеку святому в своем роде, "взявшемуся не за свое дело". Он ведь, Солженицын закладывал динамит под весь коммунистический тоталитаризм, закладывал планомерно, заминировал и был выслан. А уже непосредственные фитили и главный фитиль зажигали другие.
Итак, у Солженицына, и у Сахарова была своя - эволюция, но направление, вектор эволюции - один и тот же.
1999 год
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Начну издалека. Очень давно меня начала мучить проблема классификации глобальных проблем.
В логике есть понятие "основание деления" при дефиниции. Перечень глобальных проблем представлялся мне примерно таковым:
ядерная опасность,
народонаселение,
Север-Юг,
Океан,
нехватка ресурсов,
и где-то нарастала и потом вдруг стала первоочередной экология.
Чем больше я размышлял над всем этим, чем очевиднее становилось, что «основанием деления» может быть только одно: смерть человечества, т.е. ЭКОЛОГИЯ. Все остальное - лишь формы проявления, грани этого.
Сказал об этом Андрею Дмитриевичу. Он не согласился:
- А как же ядерная война?
Сразу ответа у меня не нашлось. Но потом, не сразу додумался, понял, что ядерная война - не что иное, как самый мощный, самый страшный ускоритель экологической катастрофы. Почему? Да потому, что, уже сама военная промышленность, как и впрочем и вся промышленность, все время душит, и народонаселение и среду обитания человечества - Землю.
Еще раз сказал об этом Андрею Дмитриевичу. Тот все-таки настаивал на том, что на первом месте глобальных проблем остается ядерная угроза. И мы договорились с ним побеседовать на эту тему.
Приехал к нему домой. Маленькая двухкомнатная квартирка. Устроились на кухне. Включил диктофон, с разрешения хозяина. Начался наш разговор. Это было едва ли не последнее его интервью. Встретились мы в первых числах декабря 1989 года. Через несколько дней Андрея Дмитриевича не стало.
Говорили тогда, конечно, много о политической ситуации, но в центре спора - оставались глобальные проблемы. Результат этого разговора таков: я его не убедил. Но он обещал думать.
Через несколько дней после нашей беседы на кухне, звонок Сахарова:
- Юрий Федорович, я много думал и пришел к выводу, что вы правы.
ЭКОЛОГИЯ - вопрос всех вопросов, а ядерные проблемы - просто ускоритель и формы. Но раз так (а именно в разговорах с Андреем Дмитриевичем и родилась эта мысль), то единственно верная конверсия - это превратить всю величайшую технологию ВПК, все эти огромные вливания - во всемирную экологическую армию. Вот единственно верная конверсия, а не кастрюли делать вместо ракет.
Мы все еще не отдаем себе отчета в том, что все мирские отправления людей, все их институты, политические, социальные, мировоззренческие, зиждились на естественном признании, принятии практического бессмертия человечества. Осознанно или неосознанно, начиная где-то с Возрождения, человечество жило в координатах практического бессмертия. Хотя и раннее христианство и средневековое жило под доминантой апокалипсиса. Потом апокалипсис стал все более удаляющейся звездочкой.
1996 год
Почему СССР догнал и даже перегнал на время
с ядерным оружием Америку?
Почему СССР догнал и даже перегнал на время с ядерным оружием Америку? Не только и не столько потому, что у нас были гениальные шпионы. Не только и не столько потому, что у нас был гениальный Сахаров и др. А еще вот почему: потому что уран добывался голыми руками сотен тысяч людей. Американцем такое даже в голову не могло прийти. Представьте: огромная, наверное, больше чем миллионная армия стоит в очередь в урановые рудники, чтобы поработать там час-другой и помереть, а глупые американцы со своей буржуазной нравственностью придумывали какие-то манипуляторы технические, а когда один инженер облучился, то стал национальным героем. Вся Америка знала его...
14 ДЕКАБРЯ 1989 ГОДА.
УМЕР АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ
В каждой стране есть гениальные люди. Я не боюсь обвинений в шовинизме и смею сказать, что у нас была гениальная русская интеллигенция, Она была истреблена. И это наша главная беда. Но все-таки остались такие люди, как Сахаров, Солженицын, Чуковская, Лихачев. Эти люди продемонстрировали нам, что человечность стала физически ощутимой, воплощенной силой. Впервые человечность стала политикой сама по себе. Это не только новое мышление, это - новое чувствование, абсолютный нравственный компас. Потеря Сахарова - невосполнима.
«Не дай мне Бог сойти с ума»
(А. С. Пушкин)
«Черная ночь.
Душный барак.
Жирные
вши...»
(О. Э. Мандельштам.
По-видимому,
последний
стих сошедшего с ума поэта)
В сущности, заглавием и этими двумя эпиграфами я уже сказал все, что хотел сказать. «Умному — намек, глупому — дубина...» не поможет.
Но все-таки надо объясниться.
Простая и все просветляющая мысль — чувство: а что было бы, если б Пушкин, Достоевский, Гоголь, Толстой, Чехов дожили до 1917 года? Как бы они ко всему этому отнеслись?
И второй вопрос: а как бы Великий Октябрь отнесся к ним?
Мысль эта (возникла она лет 40 назад) была настолько ошеломляюще смелой, что я ее — перепугался. И потом, лет 20, я столь же неотвратимо сильно к ней притягивался, как и от нее — убегал.
Сейчас (в канун своего уже 70-летия) вижу: она и была спасительной для меня, хотя я долго пытался ее абортировать, а она не поддавалась, она хотела жить, жить и, может быть, не столько для себя, сколько — это я уже потом понял, что она сама по себе бессмертна, — для того, чтобы — спасти меня. Трусость исчезла (кажется, дай Бог, навсегда) в 1974 году, когда в юбилейном пушкинском номере «Недели», той, которой я не мог не прочитать, потому что там печаталась моя статья о Пушкине — «Вдохновение», я увидел — на двух полосах набранные безобразным, безвкусным полу фиолетовым цветом — автопортреты Пушкина, каждый — величиной в почтовую марку. Один из них — меня потряс. Почувствовал, что прикоснулся к какой-то невероятной тайне.
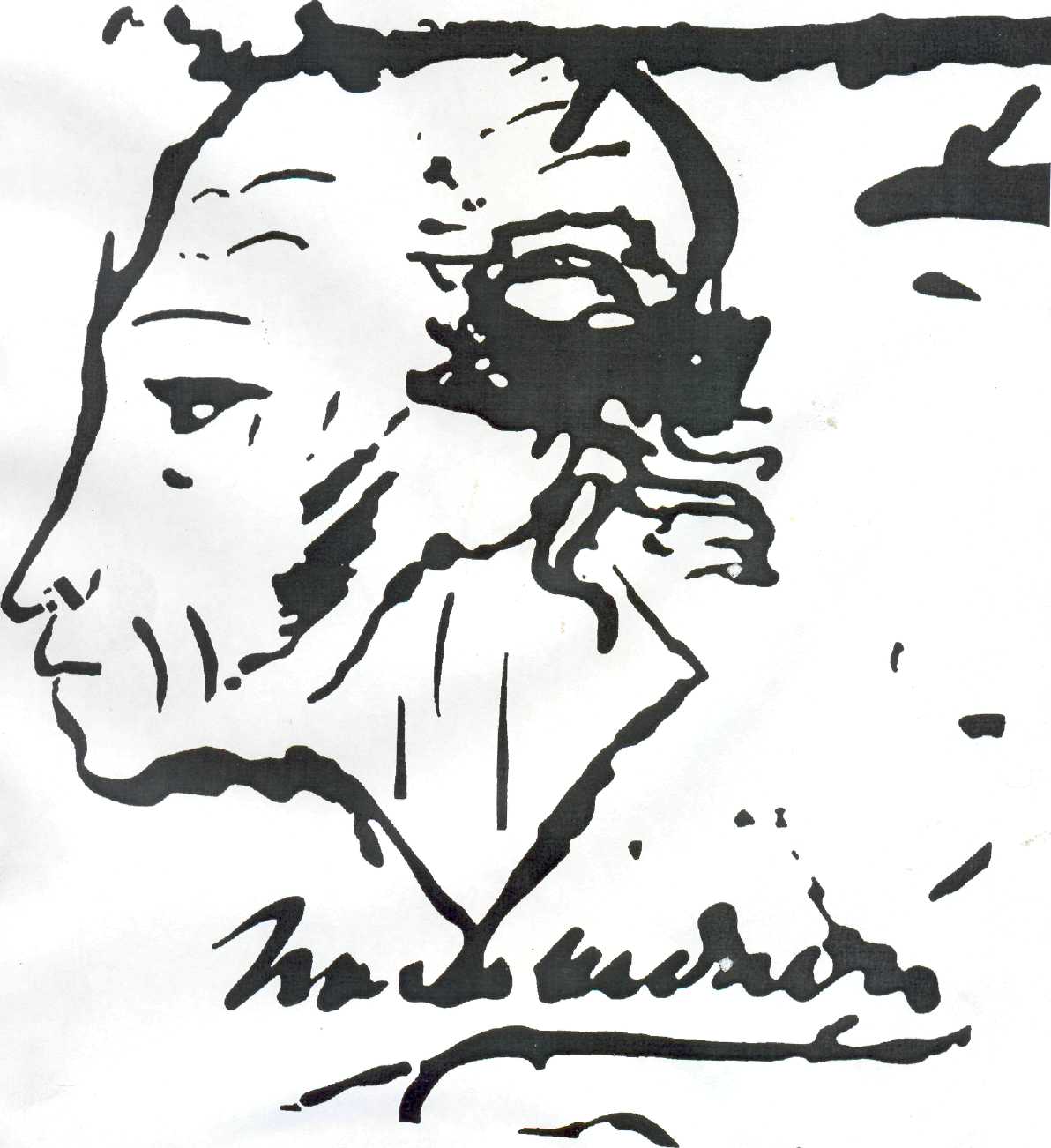
Тогда же я показал этот портрет Борису Биргеру. Его чувства, чудесного художника и не менее чудесного искусствоведа, были куда сильнее моих.
— Ты знаешь, такого не бывало. Ни один из художников, насколько я знаю, в своих автопортретах, никогда не рисовал себя вперед, да еще насколько лет! Тут же он, Пушкин — 70-ти, если не 80-летний. Такого, правда, еще не бывало.
А меня сразу пронзило: вот Пушкин, который не успел написать все то, что он знал, понимал и предчувствовал. Вот Пушкин, который, так сказать, прочитал уже не то, что второй, а третий том «Мертвых душ», прочитал «Бесов», а, может быть, и начал догадываться о существовании «Архипелага ГУЛАГ».
Не могу никак избавиться и, наверное, до смерти не избавлюсь, от самой страшной мысли: и Пушкин мог оказаться на Второй речке, на месте Мандельштама. И он мог сойти с ума и — погибнуть.
Хочется выть.
Но — нельзя. Надо обуздать себя и начать хотя бы понимать, чудовищно успокаиваться. Перешагнуть, перепрыгнуть через всех этих прохановых, зюгановых и пр. и еще понадеяться, понадеяться на Россию!
«Пушкин — это русский человек в полном своем развитии через двести лет».
(Н. В. Гоголь)
«Пушкин умер в полном развитии своих сил и унес с собою в гроб великую тайну, и вот мы без него эту тайну разгадываем».
(Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине, июня 1880 г.)
Чудесно, лучезарно, мечтательно — утопично! — гоголевское объяснение в любви к Пушкину и к России.
Загадочно и тревожно объяснение Достоевского.
Мне кажется, что вот этот автопортрет и есть (или должен быть таким) — русский человек через двести лет, или — Россия вся через двести лет.
Что такое гений? Это, в сущности, уже осуществленный, олицетворенный, воплощенный ИДЕАЛ нации.
Но остережемся прекраснодушием: когда и какая нация — вся нация — доживала до воплощения своего идеала?
Давным-давно думал и опять-таки трусил себе признаться в этом, а недавно услышал от А. И. Солженицына буквально моими словами (мы с ним давно не разговаривали): а может быть, останется от России лишь мечта (от Пушкина до Чехова), мечта о России.
Хотите знать самое ненаучное определение сути научного коммунизма:
И Пушкин мог бы оказаться во времена коммунизма на Второй речке. Сойти с ума и погибнуть.
Странно, никакой радости не испытываю я над трупом мерзавца и подлеца. Испытываю тоску. Тоску?
Да, тоску — по нему, несостоявшемуся человеку.
Есть три-четыре тысячи определения человека. Вот еще одно: человек — есть несостоявшееся благородство, несостоявшаяся совесть, несостоявшаяся честь и даже — несостоявшийся ум. И такой человек может стать, посмотрим, (хотя кто это уже увидит?) — состоявшимся самоубийцей, если приведет к самоубийству человечества.
Но что я тут наговорил! А как же Блок: «веселое имя Пушкин!»
— Да, мы веселые!
— Веселые! А ты оглянись вокруг себя! Позади, рядом, вокруг нас, да и впереди — какая веселость?...
Да, да, да.
Нет, нет, нет.
Ну, когда поймем, что каждый из нас есть уголок потаенный, есть искорка, нетерпеливо ожидающая вспыхнуть, уголок и искорка сердечной веселости, ни на кого, никуда, в обгляд, ни крутящаяся... тогда и найдем спасение!
Достоевский: не смотрите на глаза, не смотрите на губы, смотрите, как люди смеются.
Смех, неподдельная искренность чистоты душевной давным-давно догадавшейся о том, что зло — вовсе и совсем, и ни капельки — не демонично. И если снять с него, зла, все его атрибуты, ордена, погоны, то, глядючи на него, со смеху околеешь.
Что Данте, что Рабле, что Вийон, что Пушкин, что Ахматова и Мандельштам, конечно, — самые веселые люди на этой земле.
Понять бы: зло — смехотворно, смешно, трусливо.
Понять бы: благородство — скромно, стыдливо, но вдруг... — непреклонно.
Из «Дневника русского читателя», 19 мая, Переделкино
Огонек. Июнь 1999.
МЫ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛИ ТОЛЬКО ВНЕШНИХ ВРАГОВ
РОССИЯ. «ПОЛТОРА ИВАНА»
Достоевский, чуть ли не полтора века назад: «самосознание наше — самое слабое место».
Добавлю: самосознание это всегда какое-то опьянелое — то сверхзавышенное, то сверхзаниженное, то беспредельное самовосхваление, то беспредельное же самоуничижение, и редко-редко — трезвое. Пушкин не единственный, конечно, но, во всяком случае, самый нормальный, человек на Руси: никогда «строк печальных не смывал», но всегда умел сохранить высшее достоинство. Горькая ирония и в таких словах Достоевского: как ведут себя пьяные немец и русский? Первый, если он сапожник, хвалится так: «Я — самый лучший сапожник в нашей округе», а русский сапожник скажет: «Я —генерал!»...
Осознаем свое место в мире сегодняшнем и прежде всего не в смысле количественно-территориальном (недавно еще — одна шестая, а теперь — что-то около одной восьмой суши Земли), а в смысле количественно-людском, в смысле нашей «массы». На Земле сейчас уже больше 6 млрд человек. Цифра эта в голове не умещается, хотя там, говорят, 14 млрд нейронов. А чтобы хоть отчасти уместилось, я бы предложил «операцию сокращения», которая, однако, вовсе не упрощает дело, а лишь наиболее наглядно и беспощадно его обнажает.
Предположим: людей на Земле (на каком-нибудь острове, скажем) всего-навсего 60 человек. Из них не меньше чем 20—25 —китайцы и индусы. Не меньше — и из стран Африки, Латинской Америки и остальной Азии. Сколько же остается на долю Европы, Северной Америки и Австралии? А сколько — на долю нынешней России? Чуть больше 2 процентов (да и те продолжают таять) или, согласно нашему «сокращению», всего полтора человека. «Полтора Ивана». Но это лишь количественно. А качественно?..
После того, как под абсолютным самодержавием коммунистов мы сами себя истребили чуть не вполовину!
Да, были победы на Куликовом поле, на Чудском озере, под Полтавой, над Наполеоном. Там победы доставались ценой потерь, примерно равных с обеих сторон. Даже в Первую мировую войну потери воюющих сторон были сравнительно одного порядка. Но уже в Финской войне мы потеряли намного больше, чем финны. А в Отечественной войне 1941—1945 гг. пришли к великой победе, положив четверых русских на одного немца. А сколько миллионов было пленных? Когда еще, где, у кого бывало такое? Опять введем «формулу сокращения». Представьте: идет стычка, драка нескольких десятков людей, и «победа» достается такой вот ценой — четверо на одного...
Да, в конце концов мы всегда побеждали в войне с врагом внешним. Но в войне самой главной —- гражданской — врагом внутренним — насильственным ленинско-сталинским коммунизмом — наш народ, несмотря на порой отчаянное сопротивление, потерпел самое страшное поражение. И потери здесь были больше (и количественно и качественно), чем за все предыдущие внешние войны.
А сравните нас и остальной мир по величине ВВП, производительности труда, реальной заработной плате, уровню жизни, продолжительности жизни и смертности, особенно детской. А небывалая эмиграция лучших мыслительных, творческих сил (десятки, если не сотни тысяч)...
Но все-таки главным остается даже не понижение уровня жизни, а именно абсолютно небывалый уровень смерти, точнее, уровень убийства своих граждан своими же гражданами, т.е. на самом деле — уровень самоубийства народа, да еще — уровень (число) безмогильных мертвецов и безымянных могил, да еще — число закатанных асфальтом кладбищ, да еще — состояние подавляющего большинства кладбищ существующих. Небывалое понижение цены человеческой жизни — самый длинный и — осуществленный — проскрипционный список, — вот главнейшее «достижение» реального коммунизма.
При такой-то цене — такие результаты.
Преступление сейчас переименовывают в ошибки, а раньше переименовывали в подвиги. Что такое так называемый соцреализм? Он и был придуман именно для такого переименования. После, может быть, самого страшного преступления, после расправы над крестьянством, после «года великого перелома» («Вы всей стране хребет сломали и душу смяли ей в те дни» — Н. Коржавин) … и был сочинен этот социалистический реализм.... В феврале 34-го — «Съезд победителей», в мае — арест и ссылка О. Мандельштама, а 16 августа—1 сентября — Первый съезд советских писателей, образование писательского союза, этого литературного комбеда, этого литературного колхоза, этой литературно-«сплошной коллективизации», а люди, подобные О. Мандельштаму, должны были быть тоже истреблены как класс, тоже были объявлены литературными «кулаками» и «подкулачниками».
Глас народа — глас Божий.... О, если бы это было всегда так! Но ведь он бывает и гласом дьявола. Народ далеко-далеко не всегда, к сожалению, бывает прав и порой из Богоносца превращается в дьяволоносца. Чтобы столько наубивать самих себя, сколько же нужно было расстрельщиков, сколько людей должны были выслеживать, доносить, арестовывать, охранять, пытать, превращаться в палачей и могильщиков?.. Это — не разврат нации, не разврат народа?..
Читайте и перечитывайте А.И. Солженицына, В. Шаламова, П. Григоренко, Л. Разгона, А. Жигулина, Ф. Светова, Ф. Искандера, Ю. Давыдова и еще сотни других авторов.... Без этих книг, без этой памяти не имеет права русский, российский человек входить в новую жизнь, чтобы обустроить ее по-новому.
Сначала отбили память обо всем хорошем, добром, умном, что было до 1917 года, а потом в течение десятков лет добивали остатки всего этого.
Теперь отбиваем память обо всем дурном и страшном, что было после 1917-го. А было и хорошее, и прежде всего, сопротивление коммунизму, пусть и подавленное (история этого сопротивления еще не написана).
Сначала не было почти никаких подвигов до 17-го. Потом не было никаких преступлений—после....
Бог одарил нас самой большой страной и самой богатой страной в мире. Мы сами начали было реализовывать этот дар (особенно успешно в конце XIX— начале XX в.). И что же в результате? Теперь нам говорят (больше всех, яростнее всех коммунисты, прежде всего из верхушки КПРФ), что до 1985 в стране был чуть ли не рай, а после 85-го наступил чуть ли не ад. Но посмотрите, кто нами реально правит сейчас. На три четверти нынешняя власть состоит из бывшей коммунистической номенклатуры. Да и откуда могли взяться правители, действительно надежные и квалифицированные, если коммунисты выкорчевали вековые леса, а всех настоящих, призванных, лучших (тоже по-своему вековых) садовников и лесников истребили?..
Что делает нормальный человек, попавший в беду по собственной вине? Уходит в себя духовно и душевно и, сжав зубы, выкарабкивается, а не учит других, как им надо жить. Так ведь и с народами. Народ ведь не что иное, как просто «народная личность» (Достоевский), и как таковая — сама за себя и ответственна. Выкарабкались же Германия и Япония. А почему? Да потому, главное, что осознали свою вину, устыдились и — покаялись. Но все призывы к покаянию нашему (А.И. Солженицына, Д.С. Лихачева и многих других), в сущности, так и остались неуслышанными. Дескать, надоели все они.... А это и значит, что надоела совесть, т.е. со-весть — весть обо всем нашем прекрасном и некрасивом, весть обо всем нашем добром и злом, весть обо всех наших подвигах и преступлениях. Но без взрыва совести — ввиду смертельной опасности — не спастись ни миру в целом, ни России.
КОММУНИЗМ: НЕИЗБЕЖНОЕ БАНКРОТСТВО
И НЕИСТРЕБИМОСТЬ
Когда-то Троцкий сказал о Ленине: «Профессиональный эксплуататор неразвитости рабочего движения» (и — разжигатель такой неразвитости). И Троцкий был прав, как сам Ленин был прав, называя Троцкого «Иудушкой». Но их обоюдная правота отнюдь не помешала им стать самыми близкими соратниками. Наши нынешние вожди коммунизма суть такие же эксплуататоры, и не безуспешные политической неразвитости, нищеты народа, раз за них голосуют пока около 30 процентов населения. Если б они, эти избиратели рядовые, бедные, обманутые, только знали, что цель такой эксплуатации одна-единственная — прорваться к своей власти на чужих горбах. Однако обнадеживает очевидная подкупность, продажность, ожирелость, бездарность новых вождей.
Коммунизм наконец потерпел поражение, наконец обанкротился по всем статьям. Потерял право на власть, но ... не потерял право на существование, сохранил право на оппозицию. Более того, скажу так: коммунизм, может быть, в той или иной степени... неистребим. Это не парадокс, а просто факт. Неистребим именно в той мере, в какой неистребима социальная несправедливость на Земле (а она, похоже, действительно неистребима до конца, она только меняет свои формы). И вожди этого коммунизма остаются и останутся профессиональными эксплуататорами социальной несправедливости и неразвитости своих сторонников. Эти вожди делают иногда вид, что они эволюционируют к социал-демократизму, особенно когда выезжают на Запад (а там многие им охотно верят на слово). В действительности, они эволюционируют к национал-коммунизму, выявляя глубокое внутреннее родство коммунизма и нацизма. Вот вся суть их «особого», «третьего пути» для России, пути, который они хотят освятить еще и православием.
Нынешние российские коммунисты отказались и от диктатуры пролетариата, и от однопартийности, и от атеизма.... Ничего себе — «верность Ленину и Сталину! Уж эти-то последние задали бы им трепку. Какой же к черту Зюганов ленинец, если он ходит в церковь, ставит свечки, лобзается с Патриархом, когда Учитель приказал считать: «Всякий боженька есть труположество». Чем же, в таком случае, занимается — по Ленину — Зюганов?.. Впрочем, кто поверит в искренность его православия, его христианства? Кто еще недавно кричал о создании в нынешней России «революционной ситуации» и призывал ее использовать? Христос? Апостол Павел? Патриарх Тихон? Десятки тысяч священников и сотни тысяч верующих, убитых по приказу Учителя? У меня есть гипотеза (а может и аксиома?): Зюганов и сам не верит ни в какой коммунизм, ни в какое православие. Все это — лишь средство для того, чтобы, если уж нельзя захватить всю власть, то можно, надо хотя бы примазаться к ней, «сохранив лицо». А лицо — какое-то странное (но уже не страшное). Я прочитал об этом у одного крупного психолога-физиономиста. Такое вот сочетание: трусливое «мужество» или «мужественная » трусость. Неуверенность в себе рядом со «сверхнаглостью» (словечко Ленина: так он предлагал обращаться с оппонентами), озлобленность и елейность.
Если это так, то не Христа, не Тихона, не вообще христианина надо писать с таких лиц, а новую картину Тициана: «Поцелуй Иуды».
07.09.2000
ПОВДЕДЕМ ИТОГИ
Доклад для Фонда Плеханова
о 50-й годовщине ХХ съезда
Сегодня мы имеем абсолютно уникальную возможность понять самих себя, то есть понять свои прежние иллюзии. Те, что родились у нас в связи с ХХ съездом КПСС, потом иллюзии другие, связанные уже с началом перестройки, а теперь и с ее завершением. Определился целый исторический цикл, который мы наблюдали от зародыша до результата. И теперь, обернувшись назад, можем более или менее спокойно посмотреть, уже ретроспективно, на этот законченный исторический цикл.
В нем есть цель, есть средства, есть результаты.
Теперь то мы хорошо знаем, что цель провозглашенная далеко не всегда является истиной целью, ведь человек (а классикам марксизма не чуждо ничто человеческое) нередко самообманывается на счет своих истинных целей. Нередко провозглашенная цель (например – свобода, мир, социальная справедливость) оказывается всего лишь средством для цели иной, истинной, которая может обнаружиться и не сразу – например - борьба за власть. Если вспомнить столь часто цитируемое и не лишенное остроумия французское бонмо - "цель оправдывает средства", придется признать, что все совсем не так: цель не оправдывает, а определяет средства, только это становится ясным далеко не сразу и далеко не всем.
В социалистической революции провозглашалась цель - уничтожение частной собственности. Но оказалось, что уничтожить ее невозможно, как невозможно уничтожить человека. Это все равно, как отрезать половину магнита, его отрицательный полюс и считать, что оставшийся кусок будет однополюсным, положительным, а отрицательный исчезнет навсегда. Да не исчезнет он никуда. Частная собственность, как и общественная собственность, навсегда нам даны, только формы, пропорции, соотношение между ними будет, должно меняться и, может быть, даже во многом в пользу общественной собственности. Важность и значение собственности общественной в современном мире возрастает по мере осознания человечеством грозящей угрозы самоубийства рода человеческого в условиях экологических проблем и уже созданной технической возможности уничтожения цивилизации. Вот почему нельзя отдавать судьбу цивилизации и человечества в какие-то частные руки.
Другой разрушительной целью революции было уничтожение религии.
Первый вариант Коммунистического манифеста (черновой) начинался с прокламации атеизма. Маркс провозглашает: "Основа всей и всякой критики - критика религии". Потом по чисто прагматическим соображения эту декларацию убрали.
Осознанно или неосознанно, но, покушаясь на религию, основоположники марксизма тем самым покушались и на всю мировую культуру как таковую, потому что культура родилась в лоне религии. Религия есть основа культуры, ее родоначальник. Вместе с атеизмом гробится и культура.
А в противовес религии и «старой» культуре провозглашается еще одна цель – создание «нового человека». Даже мягчайший из наших революционных вождей Бухарин предлагал «проварить старого человека в котле», выплавить как из руды нового человека. Да нет, человек (человеческое начало) оказался неуязвимым для всех этих экспериментов, что бы ни делали с целым поколением людей.
А теперь предлагаю обратиться к концовке первого тома «Капитала» К.Маркса. Автор уверяет, что если раньше во всех судьбоносных переменах человеческой жизни меньшинство всегда брало верх над большинством, – и потому история человечества всегда была кровавой мучительной и страшной, то теперь, когда грядет социалистическая революция, большинство возьмет верх над меньшинством, и потому революционные перемены произойдут быстрее и легче. Тут сразу, как при запуске космического корабля, была допущена ошибка, может быть в первый момент и незамеченная. Но корабль уже был запущен не туда, и потому - рано или поздно - был обречен на гибель. Ошибка была такая, как если бы создатели межпланетного корабля забыли о законе всемирного тяготения и попытались – образ, подаренный Жюлем Верном, - выстрелить из пушки на Луну. Из пушки на Луну нельзя. Нужна вторая космическая скорость.
Так и в сфере социальной. Запускали. Стреляли из пушки – на Луну. Даже переходили на космические скорости. Но при этом забывали главное - природу человека. И это покушение на самою природу человека оказывалось самым безнадежным и непреодолимым.
Многие годы в нас жила иллюзия, что Ленин оставил Завещание, сокрытое Сталиным и позднее объявленной фальшивкой (за одно его упоминание давали срок - десятку). Многие шестидесятники в своей борьбе против культа Сталина, против сталинщины цеплялись за Ленина. Сам помню, как молился на ленинские слова о том, что партия есть " ум, честь, и совесть», что настоящий коммунист «ни слова не скажет против совести, не возьмет ни слова на веру". Потом уже, много лет спустя, сообразил, что вождь всех заразил своей целью, оправдывающей любые средства, а потом и сам стал жертвой аморализма.
Но до этого сам демонстрировал вседозволенную безнравственность. Расстрел царской семьи. Факт был скрыт.
А в 1922 году Ленин приходит к чудовищному выводу: каждый коммунист должен стать чекистом, агентом ЧКа.
Когда Горбачев начал перестройку, снова заговорили о восстановлении в партии ленинских норм.
Но теперь мы располагаем ценнейшими документами об истинной роли Ленина. Александр Николаевич Яковлев успел издать целую библиотеку документов, высвечивающих реальность гражданской войны и последующих лет террора и репрессий. Никогда еще, ни в одной гражданской войне (до Ленина) не применялись против мирного населения танки и газы. Я имею в виду Тамбовское восстание. Крестьянство поднялось, а его травили газами, как военных противников в Первую мировую. Да одного этого факта достаточно для того, чтобы прозреть наконец.
Помнится, как на одном семинаре заслуженный и уважаемый мною человек Анатолий Собчак говорил, как жаль, что белые развязали Гражданскую войну. Да полно те, гражданская война с самого начала включалась в программу коммунистов, предполагалось превращение империалистической войны в войну гражданскую. И сказано это было уже тогда, когда было дано Лениным определение диктатуры пролетариата как власти, опирающейся прямо на насилие, отрицающей всю и всякую законность. Что вам нужно? Это же абсолютно точная база, это «единственная научная» вещь. Вдумаемся сейчас, обернем, как говорил Гамлет, глаза внутрь себя. Это же обоснование всякого терроризма, под какими бы он лозунгами ни был.
Я думаю, что все началось с того, что произошло покушение на природу человеческую, и больше всего понадобилось, мы забывает это, уничтожить религию.
2006 год
ОБ АВТОРЕ
ЮРИЙ КАРЯКИН – писатель, публицист, философ, известный специалист по Достоевскому, общественный деятель.
Родился 22 июля 1930 года в провинции, в уральском городе Пермь. Отец его – Алексей Морозов, из крестьянской семьи с Волги, командир Красной армии в Гражданскую войну. В Перми стал политработником, секретарем райкома, но уже к 1933 году оказался неуместен. Исключили из партии, тяжело переживал. Обострился туберкулез. Умер в начале 1935 года, сыну было четыре года. Воспитал Юру его приемный отец – Федор Иванович Карякин, рабочий авиационного завода Мотовилихи в Перми, с годами стал ведущим специалистом авиационной промышленности и работал в Москве. Когда Юрию исполнилось 16 лет и он получал паспорт, взял фамилию Карякин.
Мать – Варвара Кузьминична Бочилло из большой крестьянской семьи переселенцев, обосновавшихся по столыпинской реформе в Сибири на хуторе близ станции Тайга. В девять лет стала главой семьи: мама-Наташа умерла, оставив семерых сирот, а отец – Кузьма Бочилло, полный георгиевский кавалер, работал машинистом на железной дороге и дома бывал редко. Семья была дружной, работящей. Все годы Варвара Кузьминична хранила и берегла семейные связи. Один ее брат – Афанасий, адъютант Тухачевского, был расстрелян в 1937 году. Другой младший брат – Иван, воевал на Финской и Отечественной, оказался в плену, бежал с несколькими отчаянными ребятами, попал к итальянским партизанам. Вернулся на родину героем, но в 1946 году его арестовали. Допросы, пытки, потом лагеря. Вышел на свободу после смерти «усатого», доживал свой недолгий век в городе Бийске. Старшая сестра Мария стала первой заслуженной учительницей Новосибирска.
Детство, первые школьные годы Юры прошли в Перми. В 1943 году семья переехала в Москву, где он закончил школу и в 1948 году поступил на философский факультет МГУ. Параллельно и факультативно учился на филологическом факультете. В 1953 г. поступил в аспирантуру философского факультета по специальности русской философии. В 1954 году был отчислен, потому что вместе со своими товарищами (Е.Плимаком, Л. Филипповым и И.Пантиным) провел «расследование» и обвинил в плагиате, доносах на ученых – двух философских «генералов», «столпов» факультета – И.Я.Щипанова и М.Т.Иовчука. Научный руководитель Карякина – Щипанов, узнав об этом «расследовании», так напутствовал своего ученика: «Годом раньше - быть бы тебе лагерной пылью». Посадить не смог, но отчисления из аспирантуры добился. Впрочем, вскоре сам попался, но уже по другому знаменитому «Александровскому делу». В аспирантуре Карякина восстановили, но защититься не дали.
С 1956г. по 1960г. Карякин работал научным редактором в журнале «История СССР». Работа в журнале приучила к строгости, дисциплине в обращении с фактами истории, к работе с «первоисточником».
Прошел ХХ съезд, в стране началась «оттепель». Хрущевское руководство нуждалось в притоке новой крови и в создании нового имиджа на международной арене. В теоретический и информационный журнал коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма", который издавался в Праге (с 1958 года), с целью его обновления направили в качестве шеф-редактора члена ЦК КПСС Алексея Матвеевича Румянцева. Человек чести, сторонник социализма «с человеческим лицом», он начал собирать вокруг себя талантливых молодых философов, историков, политологов.
В июле 1960 года, по рекомендации Евгения Амбарцумова, А.М.Румянцев пригласил Юрия Карякина работать в Прагу. Сегодня нельзя не задаться вопросом, как его, беспартийного юнца, к тому же имевшего уже «приводы» в КГБ, пропустили через чистилище «выездной комиссии» ЦК КПСС. Но пригласили. Там работали Анатолий Черняев (впоследствии помощник М.С. Горбачева), Николай Иноземцев (потом он возглавил Институт мировой экономики и международных отношений Академии наук), философ Мераб Мамардашвили, социолог Борис Грушин. В журнале царила свободная и творческая атмосфера.
Карякин приехал я в редакцию журнала с идеей «мирной революции» и «мирного пути к социализму», т.е. прихода коммунистов и социалистов к власти не путем насилия, а используя законные формы борьбы – через выборы. Его первая статья «О мирном и немирном путях социалистической революции», опубликованная в майском номере журнала за 1962 год под псевдонимом Г.Кар, оказалась для того времени своего рода новым словом, ее перепечатали не только коммунистические и социалистические издания, но и, например, английские лейбористы, увидев ней поворот Москвы к новому курсу: отход от политики «холодной войны» и ориентацию на мирное сосуществование с капиталистическим миром.
Но были и настоящие «прорывы» у молодого Карякина. Его статья о Достоевском (1963 год) стала своего рода «амнистией» Достоевскому на родине, в Советской России, где он был в течение десятилетий советской власти едва ли не «запрещенным» писателем.
Опубликованная в сентябрьском номере за 1964 год статья Карякина в защиту Солженицына и в развитие тех инициатив, что прозвучали на ХХ съезде, получила большой резонанс в Москве. Там уже вовсю сгущались коммунистическо-реваншистские тучи. Солженицына обложили флажками. Было ясно, что расправа наступит скоро, только лишь уберут главного «кукурузника». И хотя сегодня эта статья справедливо представляется неуклюже бронированной в марксистские клише, тогда она показалась «якорем спасения». Твардовский, уже предчувствуя конец хрущевской «оттепели», наступление партийно-номенклатурной реставрации и гибель своего детища – журнала «Новый мир», успел перепечатать ее в сентябрьском номере своего журнала.
Октябрьский переворот 1964 г. означал начало конца и «румянцевской деревни» в Праге. Алексей Матвеевич Румянцев со всей своей молодой «ревизионистской» командой был уже не нужен, хотя просто выкинуть его не решались. Предложили почетное место главного редактора «Правды» (по номенклатурной разрядке им должен был быть член ЦК КПСС), а команду его решили разбросать. Летом 1965 года Карякин вернулся в Москву и по предложению А.М.Румянцева работал специальным корреспондентом газеты «Правды» (с 1965г. по 1967г).
В эти годы во время одной командировки встретился с Саранске с М.М.Бахтиным, жившим там на поселении с женой. Встреча эта во многом определила его будущую увлеченную работу над Достоевским.
В 1964 году Карякин познакомился и потом сблизился с А.И.Солженицыным. Пользуясь расположением главного редактора «Правды» А.М.Румянцева, он пытался опубликовать в газете главы из романа «В круге первом». Из этого, конечно, ничего не вышло, но благодаря румянцевскому сейфу был сохранен экземпляр романа (остальные были арестованы КГБ) и передан потом А.Твардовскому в «Новый мир».
Из «Правды» Карякин ушел и с 1967г. и начал работать в Академии наук России, старшим научным сотрудником Института международного рабочего движении (впоследсвие Института сравнительной политологии).
В 1968 г. был исключен из КПСС за выступление на вечере в Центральном доме литераторов, посвященном Андрею Платонову, в котором протестовал против возрождения сталинизма в СССР и высказался в защиту преследуемых властями Александра Солженицына, скульптора Эрнста Неизвестного, поэтов Булата Окуджавы, Наума Коржавина. Горком КПСС Москвы настаивал на увольнении Карякина с работы, но в Институте его отстояли. Однако он на несколько лет попал в «черные списки».
В академическом институте – тут надо отдать должное директору Института Тимуру Тимофееву - он получил определенную свободу. И целиком ушел в Достоевского. Написал несколько статей по философско-этическим вопросам в творчестве Достоевского, много занимался романом «Преступление и наказание», рождались новые идеи: «цель – средство - результат», «самообман как необходимая предпосылка обмана других и общества». Кое-что удавалось публиковать благодаря поддержке друзей в специальных литературоведческих журналах. Но издать в 1971 году книгу «Перечитывая Достоевского» в научно-популярной серии Академии наук не удалось, несмотря даже на поддержку Д.С.Лихачева. Через несколько лет, в 1976 году удалось издать в издательстве «Художественная литература» небольшую книжку «Самообман Раскольникова».
В те же годы Карякин стал преподавать в школе, вел факультативно уроки по Пушкину и Достоевскому. В школе понял, что без «пушкинской прививки» подростку подходить к Достоевскому опасно. А началось все с пушкинского Лицея.
В 1973 году, когда почти все академики «единодушно осудили» А.Д.Сахарова, ребята на уроке спросили учителя: «Как же так, все академики – против Сахарова? А вы нам говорили, что когда-то академики Чехов вышли из Академии российской словесности, когда не утвердили избрание в Академию Горького?». У Карякина родилась идея сделать телепередачу для школьников о пушкинском Лицее, с внутренним эпиграфом о достоинстве, дружбе и непредательстве. У него уже был опыт работы с прекрасным режиссером третьего, «учебного» канала Андреем Торстенсеном («Преступление и наказание» и «Моцарт и Сальери»). И хотя цензура не разрешила дать в передаче песню Булата Окуджавы «Союз друзей» («Поднявший меч на наш союз…»), а потом запретила и прекрасную песню Юлия Ким «19 октября», специально написанную поэтом по просьбе друга для этой передачи (музыка Вл.Дашкевича), телевизионный спектакль, мастерски исполненный Олегом Ефремовым и Валерием Золотухиным, имел успех и шел на учебном канале семь лет. Пока не пришел очередной донос на Карякина и телевизионное начальство, боясь гнева зав. Идеологического отдела ЦК КПСС Ильичева, не распорядилось уничтожить пленки всех телепередач Карякина. К счастью, журнал «Юность» в 1974 году напечатал сценарий передачи «Лицей, который не кончается…».
В те же глухие 70-е годы Юрий Карякин сблизился с Юрием Любимовым, стал членом Художественного совета театра на Таганке и написал для театра инсценировку «Преступления и наказания». Премьера состоялась 12 февраля 1979 г. Спектакль шел многие годы, а когда Любимов вынужденно оказался в эмиграции и его лишили советского гражданства, спектакль «Преступление и наказание» (постановка Ю.П.Любимова, инсценировка Ю.Карякина) увидели во многих странах Европы.
В работе над «Преступлением и наказанием» на Таганке близко сошелся с Владимиром Высоцким, который играл Свидригайлова (это оказалась его последняя роль в театре). Позднее Карякин признавался, что Высоцкий стал для него молодым учителем, открыл новую форму жизни – сделать невозможное, одолеть себя: «Выйти из повиновения».
На сороковины Высоцкого Карякин написал статью «Остались ни с чем егеря», которая сначала, даже без его ведома, была опубликована в самиздатском «органе печати» газете «Менестрель» и разошлась в ксероксе и в перепечатке многих малотиражек по всей стране. А в июле 1981 года к годовщине со дня смерти поэта была опубликована в журнале «Литературное обозрение». Это была первая публикация о «песнях Высоцкого». Помог публикации выход в свет сборника стихов Высоцкого «Нерв» с честным и пронзительным предисловием Роберта Рождественского, которому удалось преодолеть сопротивление начальства и цензуры.
В середине 70-х Карякин сделал инсценировку двух небольших повестей Достоевского, «Записки из подполья» и «Сон смешного человека» для театра «Современник». Спектакль (назывался он «И пойду! И пойду!») в удивительно интересной, экспериментальной постановке Валерия Фокина, шел на Малой сцене театра и оставался довольно долго в репертуаре «Современника».
Продолжая много работать над Достоевским (в журнале «Литературное обозрение» в конце 70-х – начале 80-х годов вышло несколько его статей: «И про тебя эта история», «Достоевизм или “достоевщина ”, «Зачем хроникер в ”Бесах”», «Лишь начинаю…»), увлекся испанским художником Гойей, найдя «странное сближение». Русский писатель и испанский живописец- два мировых гения, каждый в своей сфере, «открыли поистине ядерные силы человеческой души, взрыв которых потряс человечество». Оба глубоко проникли в тему «бесов», одолевающих и мучающих как все человечество, так и душу каждого отдельного человека. Много размышлял, писал в дневниках на эту тему, позднее это выросло в раздел «Гойя и Достоевский » в книге «Достоевский и апокалипсис» (М.Фолио, 2009). Работал с Олегом Ефремовым над постановкой спектакля по пьесе испанского драматурга Буэро Вальехо «Сон разума» на сцене МХАТа.
В начале 80-х годов Карякин с головой погрузился в проблемы ядерной и экологической угрозы человечеству и «нового мышления». И здесь нашел самого заинтересованного собеседника и соратника белорусского писателя Алеся Адамовича. Осенью 1983г. они вместе с писателем Василем Быковым они участвовали в конференции, посвященной проблемам войны и мира в Минске. Оба, и Карякин, и Адамович увлеклись книгой американского журналиста-философа Донатана Шелла «Судьба земли» (в перестройку познакомились с ним и сдружились). Разделяли и развивали его идеи о том, что технологически реальной стала опасность уничтожения Земли, человечества, писали о возрастающей угрозе терроризма, в том числе ядерного, об экологических проблемах. Карякин публикует в журнале «ХХ век и мир» (это был весьма неброский орган Советского Фонда мира, который стал на время прибежищем сторонников «нового мышления») статьи - «Не опоздать! О времени живом и мертвом», 1983г. «Две войны за небытие, или о службе последней черты. Одна посылка- бесконечность следствий». Статьи эти были потом в расширенном виде перепечатаны, уже в годы перестройки, в других журналах и в известном альманахе «Пути в незнаемое», которое в 1960-1990 издавал известный популяризатор науки физик Даниил Семенович Данин.
С началом перестройка кончилась кабинетная жизнь. Карякин активно включился в общественно-политическую борьбу. Его публицистические выступления и, прежде всего, статьи – «Стоит ли наступать на грабли? Открытое письмо одному инкогнито» (журнал «Знамя», N 7, 1987) и «Ждановская жидкость» (журнал «Огонек», май, 1988) получили широкое признание и способствовали отмене позорного в истории русской литературы постановления ЦК КПСС 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград».
В 1988 г. А. Д. Сахаров, А.Адамович, Ю.Карякин и Ю.Афанасьевым стали учредителями общества «Мемориал» и «Московской трибуны».
В 1989 г. Юрий Карякин был избран депутатом от Академии наук СССР на съезд народных депутатов и вошел в Межрегиональную группу, которую возглавляли Афанасьев, Попов, Ельцин, Сахаров, Пальм (Эстония).
В своем первом выступлении с трибуны съезда (второго июля 1989 г.) обратился к президенту Горбачеву с предложением вернуть гражданство писателю А.И.Солженицыну, предложил делегатам и правительству решить вопрос о перезахоронении Ленина из Мавзолея в землю, на Волковском кладбище в Петербурге, рядом с могилой матери. Призвал высечь на стенах Лубянки имена всех погибших в застенках ЧК и ГУЛАГе. В январе 1991 года, в связи с событиями в Литве, выступил на заседании Верховного Совета против предложения Горбачева «приостановить Закон о печати», практически о временном введении цензуры. Закон о печати не был приостановлен.
В дни августовского путча в августе 1991 года находился в Белом доме, рядом с Ельциным. Выступал перед участниками «живого кольца» в рубке радиостанции «Эхо Москвы». 19 августа на базе закрытой путчисткими властями газеты «Московские нововсти» вместе с Егором Яковлевым, Леном Карпинским, Александром Гельманом участвовал в создании «Общей газеты». Вечером того же дня с командой российского телевидения Карякин и Адамович записали обращение к народу о том, что путчистов ждет неминуемый провал. Обращение было показано по каналам BBC и дошло и в США до Солженицына.
В начале сентября 1991 года на пятом и последнем съезде народных депутатов СССР, где обсуждались уроки августовского путча, Карякин предложил депутатам – самораспуститься: «Не будь трех героических дней защиты Белого дома, этот съезд проголосовал бы за хунту. И поэтому перед народом сейчас мы должны оставить свои мандаты. Это будет единственно честный выход. Вам доверия, нам доверия, мне доверия нет. Нет его и к тем, кто был в меньшинстве, потому что мы не справились с вами здесь с агрессивно-послушным большинством». Так закончилось для Карякина депутатство.
В начале 90-х Карякин много выступал в печати, по телевидению. Участвовал во многих российских и международных научных конференций по вопросам философии, социологии, литературы.
С декабря 1990 г. Карякин на общественных началах работал в Высшем Консультационно-координационном Совете при Председателе Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцине. В апреле 1992 г. он был преобразован в Консультативный совет при Президенте Российской Федерации. Поначалу Совет собирался не реже раза в месяц и на каждое заседание выносились самые животрепещущие вопросы. Постепенно встречи стали реже, а обсуждения все формальнее. В конце декабря 1994 года после ввода войск в Чечню, решение о котором было принято келейно даже без уведомления несиловых министром и тем более членов Президентского Совета, Карякин обратился к президенту: «Речь идет не только о Вашем политическом самоубийстве, к которому Вас подталкивают, но и о самоубийстве демократии в России». Карякин вышел из Президентского совета. Вхождение в политику для него закончилось.
С 1993 года Юрий Карякин живет в писательском городке Переделкино и занимается литературным трудом. Итогом этой работы стали книги: «Перемена убеждений (От ослепления к прозрению)» (М, «Радуга», 2008), «Достоевский и Апокалипсис» (М., «Фолио», 2009), «Пушкин. От Лицея до…Второй речки» (М., «Радуга», 2009), «Жажда дружбы. Карякин о друзьях и друзья о Карякине» (Мю, «Радуга», 2010).
Карякин тесно сотрудничает с «Новой газетой». Там были опубликованы его статьи: «Он все еще учится. К 75-летию Юрия Давыдова» (1999), «И еще неизвестно, что он скажет…К 85-летию А.И.Солженицына» (2003), «Бес смертный. Главный заказчик и его мысли о кастетах, кипятке и кислоте, а также о Боге, Гегеле, Достоевском, а еще об уме, чести и совести партии» (2004), «Эрнсту Неизвестному – 80. Художник Возрождения в эпоху Апокалипсиса» (2005), «Два Адама. Из “Дневника русского читателя”. Заметки об искусстве и религии» (2005), «На страшный суд с Дон Кихотом. Год Гойи и Достоевского» (2006)
Юрий Карякин, член Союза писателей СССР (с1975 г.), член Союза писателей г.Москвы, сопредседатель Союза российских писателей.
Литературные награды и премии:
Премия журнала «Иностранная литература» за 1988 год, присужденная за статью «Две войны за небытие».
Премия журнала «Огонек» за 1988 год за статью «Ждановская жидкость».
Литературная премия Италии им. Джузеппе Ачерби (PREMIO GUISEPPE ACERBI) за работы о Достоевском и, в частности, статью «Достоевский и Апокалипсис».
Премия президента Р.Ф. в области литературы и искусства за 2 000г.
----------------------
1 Наука и жизнь. 1988. № 3.
2 См. «Советскую культуру» от 1 окт. 1988 г. (7-я полоса — «Процесс»), Надо поблагодарить И. Т. Шеховцева за то, что он невольно оказался инициатором первого в истории нашей страны официального судебного процесса «по делу Сталина» (фактически первого процесса против сталинщины).
3 Можаев Б. Мужики и бабы // Дон. 1987. ¹ 1–3.
4 Дудинцев В. Правда. 1987. 10 мая.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 30. М., 1963. С. 266.
6 Достоевский Ф. М. Полное собр. соч.: В 30 т. Т. 11. М., 1974. С. 76.
7 Если бы молодость знала!
8 В СССР «Архипелаг» был полностью опубликован в 1990 году (впервые отобранные автором главы были опубликованы в журнале «Новый мир», 1989, № 7—11).
9 Здесь и далее текст цитируется по Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского в 30-ти томах. В скобках указаны номер тома и номер страницы.