

ПЕРЕМЕНА УБЕЖДЕНИЙ
ЮРИЙ КАРЯКИН
ПЕРЕМЕНА УБЕЖДЕНИЙ
(ОТ ОСЛЕПЛЕНИЯ К ПРОЗРЕНИЮ)
Москва Издательство «Радуга» 2007
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».
ISBN 978 – 5 – 05- 006 590 -2
«Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию. Бескорыстное признание в оном» требует душевной силы».1
(А.С.Пушкин)
«Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению…
Я вам прямо не поверю и скажу напротив ,что безнравственно поступать по своим убеждениям.
…Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?».
(Ф. М. Достоевский)
«Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все же прорывался в сторону, противоположной той, которая мне истинно нужна».
(А.И.Солженицын)
Юрий Карякин «Перемена убеждений (От ослепления к прозрению)»
Издательство «Радуга», Москва., 2007.
416 с., 60 х100/16
Усл. печ. л. 28,9. Тираж 1500 экз.
ISBN 978-5-05- 006590 -2
Мемуары Юрия Карякина – философа, писателя, публициста, литературоведа и политика написаны не в нейтрально-повествовательной, спокойной манере. Это живая и страстная исповедь человека сильного, мыслящего, ищущего.
Великой удачей писателя были встречи и творческая работа с талантливейшими представителями отечественной культуры – М.М.Бахтиным, Эрнстом Неизвестным, Александром Солженицыным, Юрием Любимовым, Олегом Ефремовым, Владимиром Высоцким, Булатом Окуджавой, Элемом Климовым, Альфредом Шнитке, Алесем Адамовичем, Фазилем Искандером, Лидией Чуковской, Львом Копелевым.
Большой интерес вызывают страницы, посвященные «политике» (Ю.Карякин был народным депутатом в 1989-1991 гг.) – временам демократического съезда, путча, первых трудных лет свободной России. Перед читателем проходит ряд интереснейших фигур – Андрей Сахаров, Михаил Горбачев, Борис Ельцын, Владимир Лукин, Александр Яковлев, Юрий Афанасьев, Дмитрий Лихачев…
Заканчивается книга обширными отрывками из Переделкинского дневника писателя, документа уникального по своей искренности и глубине мысли.
На задней обложке книги:
Юрий Карякин – один из самых серьезных и глубоких русских мыслителей второй половины ХХ века. В трудной обстановке этого времени у него, как и у всех нас, менялись взгляды. Но всегда это был путь к утверждению смысла, гуманности и духовности, путь к возрождению.
Наум Коржавин
Юрий Карякин показывает, как поток жизни, прочитанные книги, встречи с умными людьми и собственные раздумья постепенно привели его к переменам политических и философских убеждений. Никакого насилия над внутренним миром читатели, и потому веришь автору до конца.
Фазиль Искандер
«Книга эта подводит итог сложного, трудного, порой мучительного пути его идейно-духовного развития Юрия Карякина – философа, литературоведа, политика. Не побоюсь назвать его истинно русским аристократом духа, потому что по большому счету в жизни его интересует только одно – смысл этой жизни, место и назначение человека в ней.
Юрий Карякин - яркая звезда яркого и талантливого поколения шестидесятников, людей еще не вполне свободных, но освобождающихся. Вот этот путь освобождения и есть смысл и содержание его книги о себе и о своем поколении»
Владимир Лукин
«Книга Карякина помогает лучше понять то, что держало полстраны в слепом повиновении. Наступало ли освобождение? Всякий ли раз снова возникало марево, видимость оазиса посреди выжженных песков? Карякин старался в этом разобраться, не щадил себя, мучился вместе с героями Достоевского и вместе со всеми, кто в те годы не отказался пройти рытвинами этого нелегкого бездорожья. Позади десятилетья отвергнутых мечтаний, обломков утопий, резких поворотов...»
Вячеслав Иванов
Оглавление
Введение
Детство: вспышки памяти
Школа и университет
В журнале «История СССР»
Прага
Спецкор «Правды»
Арьергардные бои против сталинщины
Эрнст Неизвестный. Любовь-потрясение.
1968. Перелом судьбы.
70-е... Ушел в Достоевского
С Достоевским в школу… без Пушкина нельзя
Достоевский привел меня в театр
Владимир Высоцкий. «…Остались ни с чем егеря».
Элем Климов. «Бесы» – неснятое кино.
Алесь Адамович. Больше чем дружба – судьба
Мое вхождение в политику.
Съезд народных депутатов
Жизнь после смерти
1991. Путч
Президентский совет
Мне снова стал досуг учиться…
Переделкинский дневник
ВВЕДЕНИЕ
«Безнравственно поступать по своим убеждениям»?! Я наткнулся на эти слова (из «Записных книжек» Достоевского) лет 30 назад. Сразу, конечно, не понял. Как так? Мало что так прельщает человека, как «верность своим убеждениям». Мало что дает ему такую силу, устойчивость, веру в себя. Мало чем так он гордится. И вот те на...
Но зернышко запало, проросло и раскололо не то что каменные – железные, свинцовые заслонки в моих мозгах, в моей душе.
Позже я нашел и такие слова из тех же «Записных книжек»: «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?» Нашел и обрадовался: к тому времени сталинская заслонка в моей голове была уже ликвидирована, но заслонка ленинская, а потом марксистская – еще больше укрепились, стали толще. Точнее – не заслонки даже, а нечто инородное, вросшее в мозги и душу, отторгавшее все живое. Из нас выдавливали, мы сами из себя выдавливали – не раба, человека... Речь идет об убеждениях не просто политических, тактических, даже стратегических, но о самых коренных, мировоззренческих. Что произошло?
Разрыв с коммунизмом (1) и встреча рода человеческого со своей смертью, вернее, со все нарастающей угрозой самоубийства (2). Обе перемены связаны друг с другом. Обе абсолютно беспрецедентны по своим масштабам, сложности, трудности и даже скорости. Массовый разрыв с коммунизмом начался с февраля 56-го (ХХ съезд КПСС), причем начался вовсе не у нас, а на Западе, и достиг своей кульминации (уже у нас) в конце 80-х – начале 90-х.
Конечно, разрыв с коммунизмом большевистского, казарменного типа начали еще «легальные марксисты». Критика коммунизма с их стороны была несравненно основательнее, глубже самокритики коммунистов – «ревизионистов», и грань проходила не внутри одного мировоззрения, но пролагалась межа, траншея, ров между мировоззрениями. П. Струве, Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк и другие (позже их стали называть «новыми христианами») поистине заложили краеугольные камни своеобразной библиотеки исповедей людей, прельстившихся коммунизмом, познавших его изнутри, а потому в конце концов порвавших с ним, переменивших свои убеждения, людей, духовно спасшихся от коммунизма, который вначале проутюжил их своим катком. Эта библиотека удесятерилась в 20–30-х годах, потом увеличилась еще настолько же в 50–70-х и, наконец, стала, к сожалению, почти банальной для многих в последние годы.
Но без таких исповедей постижение природы коммунизма, ослепившего на время тысячи и тысячи благородных, умных, честных людей, невозможно или крайне затруднено. А какой здесь живой, драматический, трагический, драгоценный, ничем не заменимый «материал» для историков и социологов, для философов и психологов, для художников, писателей, поэтов...
Но как оценивать перемену убеждений? Каковы здесь критерии? Чьей перемене верить, чьей – нет?
Помог Пушкин: «Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию. Бескорыстное признание в оном требует душевной силы». Когда я наткнулся на эти потрясающе простые и точные слова Пушкина (из письма А.А. Бестужеву 24 марта 1825 г.), они не только подтвердили истинность избранного мною пути, но и умножили мои силы, и я понял еще, что бескорыстие и рождает душевные силы, а душевные силы с корыстью несовместны.
Зададимся самыми простыми вопросами: кто, как, почему, для чего, когда, в зависимости от каких обстоятельств переменял свои убеждения? В каком возрасте? Какой ценой? (Имея в виду сложность, трудность, мучительность процесса.) Чем рисковал? Какой профессии человек? Сколько времени ушло на это – от первого сомнения, первого сигнала, колокольчика, прозвеневшего о неверности убеждений (казалось бы, данных навсегда), до решающего прозрения, до окончательного разрыва, до колокола набатного, знаменовавшего этот разрыв? Насколько человек честен, правдив, совестлив, умен, наконец, чтобы рассказать обо всем своем пути, не скрывая правды о себе – худшем (а не говоря о себе – только лучшем)? Не подделывая себя вчерашнего под сегодняшнего? Как человек объясняет свои прежние искушения? Что «забывает»? Здесь ведь особенно верно: «плохая память» – это просто нечистая совесть, а нечистая совесть и требует плохой памяти.
А можно ли поверить тому, кто переменил свои убеждения на прямо противоположные быстро и легко, весело и наживно? Цинизм. Или тому, кто уверяет, будто он пребывал и «работал» в коммунизме в роли Штирлица, на подпольной антикоммунистической работе? Просто врет. И это даже неинтересно. Скучно.
А вот посмотрите на тех, кто остался верен своим вождям и своим коммунистическим убеждениям, кому «не в чем каяться», кто заявляет, что «ни одного прежнего слова не берет обратно» и что ему «ничуть ни за что не стыдно», – вот на этих посмотреть веселее. И повторяется все это важно, напыщенно, с чувством попранной и восстановленной справедливости.
Только если не стыдно за травлю А.А. Ахматовой, Б. Пастернака, А.И. Солженицына, А.Д. Сахарова, если не стыдно за свои восторги по случаю ввода «ограниченного контингента войск» в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, то это как называется? Бесстыдство. За что же гордость? За свое бесстыдство?
Августин Блаженный каялся в своей «Исповеди», дав человечеству истинную модель покаяния. Вот уж у кого «глаза, обращенные внутрь себя», вот у кого признание – не деепричастие, а главное предложение.
Лев Толстой – каялся в своих грехах. Каялись Франциск Ассизский и Микеланджело, Достоевский, Гоголь, Пушкин… А нашим «патриотам» (Ю. Бондареву, например) каяться не в чем!
Ну вот, кажется, и нащупаны критерии. Во-первых, искренность, конечно, абсолютная правдивость. Во-вторых, столь же абсолютное бескорыстие. А в-третьих, время, затраченное на перемены: оно, в сущности, и «концентрирует» в себе все те простые вопросы, которыми мы задались.
Вот как переменил свои убеждения Достоевский:
«Я сам старый «нечаевец»… <....> Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из «петрашевцев». <....> Пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае если б так обернулось дело. Конечно, тогда и представить нельзя было: как это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности. <....> Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма».
Уникальное значение этого признания еще и в том, что перед нами – первое исповедальное слово Достоевского, сказанное «на миру» («Дневник писателя», 1873, «Одна из современных фальшей».)
Вот как переменил свои убеждения А.И. Солженицын:
Даже на Лубянке он еще защищал «Ильича», а к концу жизни писал: «Оглядываясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих устремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все же прорывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна».
Е. Замятин был до революции большевиком. А потом написал свое знаменитое «Мы». М. Пришвин признался в дневниках, что, будь ему к Октябрю лет двадцать, а не за сорок, быть бы ему большевиком... «Мне трудно осудить большевиков, потому что если бы мне было не 47, а 20, то я сам был бы большевиком. Я был тогда невежественным, не знал никакого дела, значит, чтобы отделаться от большевизма, нужно: 1) время, 2) опыт и знание, 3)личная жизнь». «Я пережил Маркса в юности. И я, наверное, знаю, что все, верящие теперь в Маркса, как только соприкоснутся с личным творчеством в жизни, оставят это мрачное учение…»
Иногда мечтается: составить бы антологию таких исповедей... Вот была бы школа, вот был бы университет, вот была бы прививка от соблазна коммунистического. На поворот в истинную сторону у Достоевского ушло лет шесть-восемь, у Солженицына – десять-одиннадцать. А у Замятина? У Пришвина?.. Ну а если начать с себя? У меня от первого колокольчика – до набата... Долго. Сопротивлялся отчаянно, прежде чем капитулировал – не перед антикоммунизмом, перед жизнью.
Цель этой книги – не разоблачать, а рассказать о самопереубеждении. Другого пути нет, как честно рассказать о самом себе. Эта книга – не столько рассказ свидетеля эпохи, сколько книга-исповедь. Не проповедь, а исповедь. Рассказ, прежде всего, о себе, о своей глупости, о своей интеллектуальной нечестности и об одолении этого. О своем пути освобождения, обретения свободы. Как-то Владимир Лукин очень точно заметил главную черту нашего поколения, которое иногда называют шестидесятниками: это люди не свободные, но освобождающиеся... Согласен, и тут же у меня возникает вопрос: кому легче, кому труднее? Свободный удивляется несвободе, освобождающийся – добывает свободу, одолевая свою несвободу.
Пишу не для себя. Пишу, прежде всего, для своих сверстников и, хотелось бы, для будущего поколения. Кто-то надо мной посмеется – пусть. Но писать без адреса не могу и говорю прямо: хочу передать свой опыт.
За последние дни перечитал много воспоминаний – своих друзей и не друзей. Воспоминаний – сотни. Самое лучшее, что в них есть, – личное, а не общие рассуждения. Да, именно личная боль, ее одоление, личные переживания. Пронзительные ноты крайне редки. Особо стоят воспоминания Григория Померанца, философа, мудреца, который удивительно художественно, поэтически рассказал о своей лагерной любви.
Когда думал о своих воспоминаниях, кажется мне, нашел главный нерв – «перемена убеждений», то есть движение мысли, нравственное и интеллектуальное.
Итак, мне – 77. Оглядываюсь назад. Все время держу в голове как будто «избитое», но никем не достигнутое сократовское: «Познай самого себя».
Казалось бы, никто не знает тебя так, как знаешь ты сам. Но тут ошибочка. Да, ты знаешь о себе все – и хорошее, и плохое, чего не знают другие. Но понять себя без прожектора лучей, идущих от других людей и высвечивающих тебя, тоже нельзя. Конечно, можно и нужно, наверное, не обращать внимания на людскую молву, на то, что о тебе говорят. Но ведь говорю я теперь не о молве, а о том, как предстаешь ты сам в свете, в облучении людей. Это помогает «познать себя», пусть само это движение мысли остается бесконечным.
И еще. Об уникальности нашего поколения.
Задумываясь о нашем, моем поколении, я вовсе не говорю: лучшее-худшее... Каждое поколение неповторимо. Я просто говорю: такого не было, нет и не будет. Совмещение таких эпох, такой ломки, такого самоодоления… Абсолютная уникальность моего поколения. Раскрытость в обе стороны, нет, на все три стороны: и в прошлое, и в будущее, и в сегодняшнее. И последнее слово нами все-таки еще не сказано, недосказано. Потому что еще живы некоторые старики.
Наше поколение – «потерянное»?
Нет, то есть не только нет: и потерянное, и нашедшее себя, во всяком случае – ищущее. В этом-то вся его и уникальность.
ДЕТСТВО: ВСПЫШКИ ПАМЯТИ
Где вы видели в природе линии?
Я всегда вижу пятна света и тени.
Франсиско Гойя
Рассказать о своем детстве подробно не могу. Какие-то вспышки воспоминаний. Жизнь вообще состоит не из линий, а из точек, которые порой взрываются и озаряют целые куски жизни.
…Умирает отец от туберкулеза. Мне четыре года. Мама старается отделить меня в нашей большой комнате. Но я все равно заразился. Меня посылают в детский туберкулезный санаторий. Мы спим в теплых спальных мешках на морозе. Счастье. Потом привезли меня домой. У дома нашего множество людей. Папа почему-то лежит в костюме не укрытый, и ему не холодно. А снежинки на его лице не тают, и мать все время смахивает их. Мне объяснили, что папа умер. Но я все равно не понимаю. Поцеловать его – не заставили.
…Не верят обычно дети в реальность смерти человеческой. Как и в реальность обмана – злого, а не из сказки. Но очень чувствуется связь одного с другим. Мысль о смерти выталкивается у детей из головы, как мячик из воды.
Но когда я сам через несколько лет тяжело заболел и едва не умер, открылось мне вдруг нечто о смерти, о бесконечной ценности жизни, открылось не меньше, чем «положено» взрослому. Не всплывет мячик, если его проколоть.
Тогда спасла меня мать. Пришла к главврачу города Перми (я там родился в 1930-м) и сказала, что не уйдет, если он не отправится сейчас же с ней ко мне в больницу. Сначала определили у меня ангину, и я бегал с ней два дня, а оказалась дифтерия, в те годы, да еще в провинции плохо лечимая. Пенициллина не было. И поместили меня в палату безнадежных. Нас в палате было четверо. Когда меня положили, еще были силы хулиганить. По всей стене, отделяя нижнюю ее часть от верхней, бежала ядовитая синяя полоска. Когда все заснули, намазал этой краской всем ребятам носы. Не забыл и себя, хитрец, чтобы меня не уличили. Но утром, видимо, было уже не до разборок. Куда-то я летел, будто по туннелю, а потом чувствовал мамину руку и открывал глаза: «Мама, я умираю?» Выжил, а другие мальчики умерли.
ФОТО 081
Недавно, разбирая мамины бумаги, наткнулся на сохранившуюся у нее выписку из истории болезни № 783:
«Морозов2 Юрий, 10 с половиной лет, проживает: Куйбышева 6, кв. 3
Находился в инфекционной больнице с 5 марта по 7 апреля 1941 года, по поводу токсической дифтерии зева. Болезнь протекала в тяжелой форме с осложнениями: острый миокардит
Сывороточная реакция в течение 10 дней в тяжелой форме
Явления легкого пареза мягкого нёба
Выписан домой с небольшими явлениями со стороны сердца (учащение тонов сердца с пульсацией, легкая гнусавость)».
Об отце помню еще, как он выпорол меня под красным знаменем – в моем углу, где были игрушки, ящик с кубиками, столик и где стояло это красное знамя с золотыми буквами – знамя полка, подарок отцу. Алексей Морозов прошел Гражданскую войну комиссаром. А порол он меня (уже больной был) за то, что случился со мной малый грех, когда заигрался с ребятами, а штаны были новые, синие, военные, назывались галифе, в них я сразу попал в командиры.
В Перми отец стал политработником, секретарем райкома. Но уже к 1935 году оказался неуместен, его исключили из партии. Пережить не смог. Обострился туберкулез. В тот же год умер. ФОТО № 73
Кролик Колька
Мама летом повезла меня в родную деревню отца Астрадамовку, под Саранском. Надеялась, что родня ее любимого Ленечки поможет ей сына вырастить. Деревня мне показалась огромной. Вышел на улицу. Стоят две бабы, обе с коромыслами, ведра полные. Вдруг одна расставила ноги, продолжая разговаривать, да как писанет! Удивлению моему не было границ.
А за деревней раскинулась степь с оврагами и провалами, заросшими кустарником. Там было удобно играть в войну. И хотя мы с мамой жили бедно, для деревенской голытьбы я был чужим, «городским», у меня даже были сандалии, вещь в тех местах невиданная. Деревенские мальчишки в тех оврагах курили. Предложили мне. Отказался. Стали требовать, били. Уткнулся лицом в стенку оврага, в землю, в корни, ветки. Не заставили. Думаю: может быть, поэтому до 40 лет так и не закурил.
…Был в бабушкином хозяйстве кролик, его почему-то звали Колька. Я его полюбил. Иногда по ночам он прибегал ко мне и стучал лапами в дверь. Однажды старуха (не бабушка, а кто не помню) кормила меня и криво улыбаясь, сказала: «Ну, как Колька – вкусный?» Хотел убить старуху. Долго плакал. Была детская истерика.
Из Астрадамовки мы уехали к осени счастливые, с чемоданом деревенского добра (картошка, капуста, морковка). А в дороге нам подменили чемодан, все вытащили и положили туда кирпичей. Мама чуть не рехнулась от горя.
После смерти отца мать пошла работать заведующей детсадом. Получился у нее в хозяйстве к концу месяца остаток – двадцать восемь кусков мыла. Принесла сдавать в свою контору, а ее там на смех подняли: не было у них такого случая. Так потом и говорили: «Это та, которая мыло сдала». ФОТО 0 72
Была моя мама, Варвара Кузьминична Бочилло, из крестьянской семьи переселенцев, что двинулись в Сибирь по реформе Столыпина. Из-за ранней смерти матери своей Наталии «держала» дом, хоть и не была старшей в семье. Старшую сестру Марию отец Кузьма определил учиться. Она и выучилась, сама стала учительницей, преподавала в школе до седин, и ей первой в Новосибирске присвоили звание заслуженной учительницы России. ФОТО 075 А маме пришлось быть на хозяйстве, ведь отец ее, мой дед Кузьма Макарович Бочилло, машинист железной дороги, все время был в разъездах. Вот мама Варя с ранних лет стала хозяйкой дома и вырастила всех своих шестерых сестер и братьев. Грамоте выучилась поздно, поступив в вечернюю школу для взрослых.
В нашей комнате собирались три ее подруги и читали про князя Игоря и княгиню Ольгу. Вместе с ними постигал азы русской истории и я. Очень полюбил «вещего Олега» и стихи про него потом читал в школе со сцены. И еще запомнил на всю жизнь, как мама читала мне в детстве «Песнь о Гайавате» и поэму Некрасова «Саша».
ФОТО 080
Жили мы трудно, только я этого не понимал. А во время войны, в сорок втором, вдруг появились у нас конфеты, тогда невиданные, – шоколадные, ореховые батоны. Их и на сахар легко было сменять, и на масло, и на хлеб. Эти конфеты мама получала от тети Дуси, продавщицы в закрытом распределителе, а ей относила разрисованные ею коврики, скатерти, дорожки, занавески. Иногда посылала меня отнести ее «продукцию».
Комнатка у тети Дуси была тесная, сплошь увешанная коврами и заставленная бронзовыми статуэтками и подсвечниками. Еще пианино стояло, а на нем патефон. Однажды мама взяла меня с собой в распределитель. Зашли туда со двора. Сунула тетя Дуся в сумки, мою и мамину, – по свертку, и мы пошли домой, но не обычной дорогой, а в обход, кружным путем, и мама все время оглядывалась. Я догадался и почти всю дорогу ревел, сначала от страха и стыда, потом от жалости к ней. Она тоже плакала и повторяла: «Сынок, я больше не буду, я больше не буду…»
Помню еще, как-то зимой отпросилась мама на несколько дней из госпиталя, куда пошла работать сестрой. Собрала вещи, тряпки всякие, погрузила их в пошевенки (та у нас называли санки с боковыми стенками) и ушла в деревню – «менять». Не было ее дней десять. Только возвращаюсь раз из школы, после третьей смены, темно, а впереди женщина тащит пошевенки. Иду следом, а подойти боюсь. Она остановится передохнуть, и я стою. И вдруг она прошла мимо нашего подъезда! Страшно стало. А потом вижу – в наш двор повернула, чтобы с черного входа войти. Мама! Страшнее и счастливее никогда не было. Привезла мешок картошки мерзлой, из-за которого ее чуть не убили дорогой.
Помню, как испытал я и другой страх, совсем особый. Мама заболела и послала меня в аптеку за лекарством. Я еще совсем маленький, в школу не ходил.
Вечер был поздний, темно. Снег хрустит под ногами. Холодно. Мне надо перейти площадь. Помню, там висели большие часы. Смотрю на стрелки, и вдруг мне показалось, что время вообще остановилось. Небо высокое и темное, усыпанное звездами. И откуда-то оттуда из бесконечности, подумалось мне, смотрит на меня, быть может, такой же мальчик Юра. И нет никаких границ в пространстве, как нет и самого времени. Это было какое-то страшное и таинственное ощущение бесконечности времени и пространства.
Перед войной, году в 39-м или 40-м, пошли с ребятами рыбачить на Каму. Рыбачили с плотов. Они, огромные, тянулись на два-три километра вдоль левого берега Камы. Раннее утро. Рыба не клюет.
– Искупнемся?
Я не умел плавать. Струсил признаться. Стал смелым из-за трусости. Прыгнул, бревна-то рядом. Думал – уцеплюсь. А меня затянуло под плот. И сейчас помню: между бревнами полоски изумрудные, светлые-светлые. Головой бьюсь о бревна. А потом – тишина. Очнулся на плоту. Ребята вытащили.
Был у меня замечательный дед, который жил на хуторе близ станции Тайга. Многие годы Кузьма Макарович Бочилло служил машинистом. А до этого воевал в Русско-японской и получил четыре креста. Небывалой силы и мужества был человек.
Все в округе очень уважали его за то, что поймал он Ваську-конокрада, от которого не было спасу. По семейным рассказам, дело было так. Ушлый, хитрый и отчаянный был этот Васька, царь и бог. Крал коней не поодиночке, а сбивал их в стаю и уводил. Как-то сказали деду Кузьме, что опять Васька балует. Тот в ночь и вышел на большую дорогу, дожидаясь разбойника. Как увидел скачущих коней, вышел посередь дороги, распахнул свою огромную кавказскую доху (военную награду), как огромная птица, и кавалькада об него разбилась. Остановил коней на всем скаку. Развернул одного, повернули другие, тут Васька от страха сам побежал. Там уж и мужики выскочили и избили Ваську до полусмерти. А когда дед женился на бабке моей, красавице Наталии, священник во время венчания шепнул ему на ухо: «Какой дорогой едешь, Кузьма Макарыч?» – «Такой-то». – «Не езжай, тебя там Васька поджидает». Классическая сибирская легенда? Быль. Явь. Уж потом встретил Ваську, тот и сказал: «Бог тебя спас, а то собирался тебя привязать, а невесту твою изнасильничать».
ФОТО № 69 и 71
Детство для меня – это не только Пермь, но еще и дедова тайга, лес, кедровые сборы, пчелиные ульи, отмеченные дедом по-хозяйски для переноса на хутор, заимки, луга, покосы. Дед Кузьма был коренником нашей большой семьи, крепкой, дружной, спаянной. В семье все друг другу помогали. И конечно, мамины братья меня баловали. Без подарков к нам в Пермь никто не приезжал. И с детства было ожиданье: привезут подарок? Выработалась своеобразная оценка людей: способны они отдавать или только брать!
Старшего из маминых братьев, Афанасия, помню плохо. Ординарец Тухачевского, воевал в Испании. В 1937-м его расстреляли. А вот младшего, дядю Ваню, полюбил с детства, и прошел он через всю мою жизнь.
Помню, как в 40-м приехал дядя Ваня из Латвии к нам в Пермь. Все еще у него впереди, вся жизнь. Молодой, красивый, четыре значка, лейтенант. Привез подарки невиданные. Вся коммуналка собралась (вино, пельмени), я у него на коленях, счастливей нельзя. Он нам рассказывает про Латвию, как там живут. А потом: «У меня часы с небьющимся стеклом!» Все так и ахнули: «Не может быть!» «Не верите?» Взял вилку да по часам – вдребезги. «Эх, плохо делают!»
Потом пошли мы с ним гулять. И я молча, упорно, ничего не выпрашивая, привел его – я знал, куда идти, – к углу магазина, к витрине, и встал. И начал смотреть в одну точку. Он сразу сообразил: «Тебе что купить, это?» «Это» было книгой, которую я давно высмотрел, – «Герой нашего времени». Он мне ее, конечно, купил. А время было страшное. Постоянное ощущение праздника и страха. Все фильмы – про врагов народа. Все просто кишело врагами народа. И я стал читать эту книгу, ища, естественно, врага народа. Даже шпиона. Ничего понять не мог. Сначала я думал, что шпион – это Казбич. Потом решил, что это, конечно, Печорин...
Ребенок не всегда понимает смысл разговоров вокруг себя, но ребенок понимает музыку времени. Помню Гризодубову, Раскову, Осипенко и как их встречали! Они ехали поездом, возвращаясь с Дальнего Востока. Это был праздник. Помню имитацию похорон Чкалова. Когда он погиб, в нашем клубе вывесили его портреты, и туда все шли в день похорон. У меня до сих пор такое ощущение – не лежал ли он там? Папанинцы! Опять всенародный праздник! И одновременно – совершенно жуткий, нараставший страх.
В школе объявились какие-то тетрадки, на оборотной стороне – «У лукоморья дуб зеленый». А в дубе, в листьях, такие загадочные картинки, например Гитлер или «Долой Советскую власть». И учителя говорили нам, что все мы должны быть бдительными. Очень хорошо помню, как наша улица стала называться Куйбышевской. Мое первое политическое воспоминание: 25 января 1935 года – убили Куйбышева!
А ведь это было нарастание «бесовщины». Сначала сознательная подготовка убийства Кирова (1 декабря 1934-го), а 25 января – Куйбышева. Кто мог знать тогда, что в конце лета 34-го года Киров в письме посетовал: «Сталин требует от меня... (даже он его не Сталиным называет, а Джугашвили)… Джугашвили требует от меня раскрытия антигосударственного, антипартийного заговора зиновьевцев в Ленинграде. А я прекрасно знаю, что ничего похожего нет. Джугашвили же мне сказал, что плохой ты коммунист, товарищ Киров». Это то звенышко, которого не хватало для первого декабря, а потом и для 25 января, если еще учесть, что почти за год до этого, в ночь с 8 на 9 февраля, была произведена фальсификация при подсчете голосов на XVII съезде.
А дядя Ваня попал в плен, потом в лагерь. Бежал из лагеря с несколькими отчаянными ребятами, воевали в отрядах итальянских партизан. Вернулся на родину. В 1946 году его арестовали. В наших лагерях спасся дядя Ваня тем, что еще по дороге на перегонах починял другим арестованным, в том числе и уголовникам, одежду, пришивал пуговицы. Те и обозвали его «портным». За кличкой пришла судьба: определили его в лагере в пошивочную мастерскую, шить арестантам порты да куртки. У меня и сегодня хранится грубая куртка из непромокаемой холщовины, которую он прислал мне в Москву из своего родного Бийска, где доживал после лагерей.
Многие годы мама моя тайком посылала Ванечке посылки в лагерь. Ездила в Люберцы сдавать посылки куда-то туда… От меня все держали в секрете. Может быть, это меня и спасло.
Война и «вакуированные»
Навалилось какое-то племя людей нездешних, совершенно других, принесших представления о совсем другом мире. Это было начало манящих и удивительных открытий. Музыка, театр, культура…
В Пермь эвакуировали многих москвичей и ленинградцев. Среди них приехали выдающиеся деятели искусства. Балетная труппа Мариинского театра и Большого. Сама Уланова. Много музыкантов. Московская филармония. Мне несказанно повезло. Наша соседка Елизавета Антоновна работала в филармонии и брала меня на концерты. А потом определила учиться музыке к самому Браудо, был такой замечательный органист.
Елизавета Антоновна повела меня впервые на оперу. Мусоргский. «Хованщина». Сидел и слушал как завороженный. На сцене – пожар. Я вжался в кресло. Жутко и страшно. Оказалось, что действительно в театре пожар. Паника. Все бегут, А я прирос к месту, зачарованный, во все верю.
Среди эвакуированных ребят нашел я и своего друга. Это был Гарик Левин. Жил по соседству с нами (отцу его, заместителю министра путей сообщения, предоставили в нашем доме двухкомнатную квартиру). Гарик был начитан, образован, с ним было интересно и весело. Хохмили, убегали с уроков, уезжали на трамвае (конечно, без билетов) на Пермь-Первую, на далекую окраину города.
Там как-то получил я первый урок антисемитизма. Менты нас, безбилетников, поймали. Меня отбросили, как щенка (русский!), а над Гариком (у него был выдающийся нос-рубильник) решили поиздеваться. Один из ментов пнул его сапогом, крикнув: «Жиденыш проклятый!». Маленький и щуплый Гарик застонал от боли и упал. А со мной приключилась (в первый и последний раз) детская истерика. С криком «Не смей!» бросился я на мента и вцепился зубами в его сапог. Тот оторопел, а второй процедил сквозь зубы: «Да ладно, пошли, черт с ними!»
Любили мы с Гариком, удрав с уроков, отправиться за Каму. Это была другая страна, таинственная, свободная. Мы делали, что хотели. Я брал с собой лук, который мне подарил мой второй отец – Федор Иванович Карякин, фамилию которого я взял, когда получал паспорт. Такого грозного оружия не было ни у кого. Но охотились мы в основном за бабочками. Самые красивые из них прятались в кустах. Как-то кинулся я в кусты дикой розы, схватил бабочку и проколол насквозь палец. Гарик, который знал все на свете, оглядев мою руку и мертвую бабочку, мрачно сказал: «Знаешь, какой яд у этого куста? Смертельный! Не помню, когда наступает смерть. Но наступает точно». Тут я понял, что надо что-то делать. И на всякий случай сказал другу: «Гарик, если я умру, то я завещаю тебе свой лук». Мы верили в неотвратимость возмездия. Но я выжил. Иглы розы оказались неядовитыми.
Было еще одно замечательное место, куда мы удирали с уроков играть в войну, – подвалы Пермского музея деревянной скульптуры, что на вершине Комсомольского проспекта. В нашем классе кроме Гарика был Рафик, чей отец был искусствоведом из Ленинграда. Служил он кем-то вроде хранителя подвалов Пермского музея. У Рафика фантастическая коллекция. После уроков или вместо уроков мы в эти подвалы сбегали. Играли в войну, занимая оборонительные позиции прямо между деревянными чудищами, теперь всемирно известными гениальными пермскими скульптурами. Тоже везенье. В детстве увидеть эту красоту…
Эта история случилась в мой предпоследний школьный день в Перми и была самой важной в школьном детстве, потому что я впервые решился на поступок. Был у нас в классе второгодник верзила Фома, непререкаемый авторитет местной шпаны. Перед ним все стелились или просто обходили его стороной. Учились тогда в три смены. Мы с Гариком в седьмом классе – в последнюю смену. В перемену мы стояли наверху деревянной лестницы. К нам поднялся Фома и неожиданно карандашом сильно ударил Гарика по носу, прикрикнув: «Эй ты, отвали со своим паяльником. Мы с Морозиком поговорим». (Тогда фамилия моя была Морозов, по родному отцу.) Навсегда запомнил эту секунду. Я просто физически не мог поступить иначе. Гарик вскрикнул от боли, а я в ту же секунду бросился на Фому и ударил его головой в живот. Он охнул от неожиданности и покатился кубарем с лестницы.
Прозвенел звонок, кончилась перемена. Мы вернулись в класс. Было около восьми вечера. Я понял, что меня будут бить. Боясь и сопротивляясь тому, что будет, пошел в девятый класс, где учился сын друга моего нового отца, Федора Ивановича. Огромный парень, чемпион по боксу. Рассказал ему, что произошло, и попросил: «Помогай». Но он струсил. Что такое дворы тогдашние, особенно школьные – особая история. Тогда сбивались во дворах небольшие банды-мафии со своими вожаками, авторитетами, которым все платили дань кусочками сахара или чего ни попросят.
Вся школа гудела к последнему уроку. Морозик дал Фоме по морде. Что-то будет? Навсегда запомнил эти минуты. Мы сидели с Гариком на одной парте. Кончился последний урок. Мы очень долго укладывали книжки в портфель. В классе стояла мертвая тишина. Все вышли. Мы вышли последними. Двор школы тогда представлял почти римскую арену, окруженную аккуратно уложенными в поленницы дровами. На них уселись, как голуби, ребята нашего и других классов. Вся школа ждала развязки. Гарик начал канючить: «Ну зачем ты так? Ведь что сейчас будет!» Но я уже был взвинчен, да и отступать было некуда. Мы вдвоем вышли на эту арену, как на казнь. Точно помню, что страха у меня не было, а было чувство, что произойдет что-то неожиданное. Вышли. Все на поленницах смотрели, что будет.
Смешно, но поначалу меня спасла шуба. Только что мама мне сшила шубу. Тогда шили на вырост. Шуба была мне до пят, изнутри – меховая с хвостиками. Засунув руки в карманы своей фантастической шубы, я спокойно пошел к воротам, где стояла кучка Фомы. И вдруг в кармане нащупал ключ, огромный. Мы жили в бывшем купеческом доме, двери были большими, и ключи от замков соответственные. Я вдруг понял, что все будет в порядке. На меня накинулись парни из банды Фомы, повалили на землю и стали пинать ногами. Я отворачивался, почти не защищаясь, только укрывал голову, а в правой руке держал наготове ключ. Следил только за Фомой, не обращая внимания на пинки и боль. Фома стоял в стороне. Наслаждался. И тут я, поднявшись (по-видимому, была какая-то сила), пошел прямо на Фому. Вынув правую руку из кармана, я закатил ему ключом в глаз. Фома завопил от боли. Все оцепенели. Мы вышли с Гариком на Ленинскую улицу и совсем не героически бежали. Нас не догнали.
На следующий день мы с мамой должны были уезжать к отцу в Москву (его перевели работать в министерство авиационной промышленности).
Я мог уже и не ходить в школу, но решил идти. Утром пришел Гарик и сказал мне опять: «Ну зачем ты вчера так?» Он уже привык к тому, что его били. Чем больше он ныл, тем больше я злобился. Молча я собирал свой портфель и сказал: «Пойду на последний урок». Поезд уходил вечером, почти ночью.
Это была первая моя серьезная победа в жизни. Когда вошел в класс, увидел Фому с фиолетовым фонарем под глазом. Мы встретились глазами. И я понял, что победил. Это мгновение в какой-то мере определило мою жизнь. Я увидел в его глазах поражение, трусость. А вечером все повторилось. Фома опять собрал компанию. Меня опять хотели бить, но мы с Гариком пробились и, честно говоря, опять бежали.
Сейчас, оглядываясь и не скрывая своих слабостей, думаю, что в тот момент стал самим собой. Не пойди я в школу, покажи всем, что испугался Фомы, я был бы не я. Может быть, тогда родилась во мне любимая пословица: «Не постой за волосок, головы не станет». Это был урок на всю жизнь. Прошло много лет, и однажды в Сокольниках я встретил того парня из девятого класса, чемпиона по боксу, который струсил меня защищать. Я ему: «А ты помнишь, как предал меня?» Отмолчался.
Думаю, что человек в детстве или юности должен совершить какой-то поступок, который даст ему уверенность в себе и установку – не уступать.
Больше никогда не уступал. Боялся. Рассчитывал. Понимал, когда можно, когда нельзя. Но никогда не отступал.
Много лет спустя, в 1978 году, когда мы поехали с моей женой Ирой в Пермь, я попытался найти этого Фому. Он был по-своему яркой личностью, иначе не стал бы лидером, пусть и дворовым. По приезде узнал, что Фома несколько лет играл в нападении за футбольную команду Перми. Стал искать. Опоздал. Буквально за несколько дней до нашего приезда Фома по пьянке утонул.
В Москве на «новенького»
В ноябре 43-го мы с мамой перебрались к отцу в Москву. Поначалу поселились в Томилине, где отцу дали от министерства комнату. Это была еще не Москва, полу-Москва, но это был уже совсем иной мир. Детство кончилось. Я чувствовал себя здесь чужим. И все же постепенно происходило превращение пермского мальчишки в полумосковского.
В 1948 году наша семья переехала в Москву, в Сокольники, в коммуналку, где у нас было две небольших смежных комнатки. В Москве началась для меня совершенно новая жизнь. Новая школа, новые ребята. На первых порах без друзей. (Позже моим другом станет Лёня Пажитнов.) И новый двор. Пригодился пермский опыт борьбы со шпаной.
В нашем дворе дома по Маленковской улице (как и во всех московских дворах) сколотилась своя маленькая банда со своим вожаком. Ребятам хотелось испробовать на прочность «новичка» и вообще проучить, чтобы узнал московские порядки. Из школы домой возвращался всегда уже в потемках и всякий раз боялся прямого столкновения, шел обходными путями. А посередине двора с войны осталась большая яма с водой, котлован непостроенного дома, в котором во время бомбежек гасили зажигалки. Однажды решил: будь что будет, надоело прятаться. Пойду напрямик. Меня у входа во двор поджидали и по знаку уже московского «Фомы» опрокинули на землю и принялись пинать ногами. Опять как-то увернулся, вскочил, выглядев «Фому», сцепил его руками в объятия и потащил вместе с собой в яму с водой. Оба барахтались, новоявленный «Фома» чертыхался. Ребята помогли вылезти ему, а потом и мне. С этого дня меня уже не трогали.
Прежняя, тайгинско-пермская жизнь еще поддерживалась частыми наездами родных из Сибири и с Урала. Летом 46-го года меня одного поездом отправили на Урал, в Пермь, а потом в Сибирь, в Тайгу, к деду. Ехал я долго. Останавливался в Перми у тети Аси, младшей маминой сестры, потом недели две жил в Новосибирске у маминой старшей сестры Марии и ее мужа Иосифа. Потом месяца полтора в Тайге, у деда с дядей Иваном. Все прежнее всплыло. Поля, луга, покосы, тайга… Кончилось трагически. Вернулся в Москву и узнал, что дядю Ваню посадили. ФОТО № 76
Но в те же последние школьные годы в Москве случилось, может быть, главное счастье моей жизни. Этажом выше нас жила семья профессора Сергея Сергеевича Каринского, из потомственных адвокатов. У него была богатейшая библиотека. Мне разрешили брать любые книги и читать. Эту библиотеку я помню даже физически. Как пещера, а там – клады. Какой-то нескончаемый пир. Тогда я прочитал всего Шекспира, Гамсуна (как сейчас помню, в издании Жемчужникова), Ибсена, целую библиотеку о Наполеоне, «Силуэты русских писателей» Ю. Айхенвальда, Данте с иллюстрациями Доре. Невероятное увлечение литературой. Невероятное в том смысле, что где-то в 8 классе я решил, что буду литературным критиком.
То семечко культуры, что было посеяно «вакуированными» в Перми, теперь попало на богатую почву.
И это все в меня запало,
И лишь потом все во мне очнулось...
Но прежде чем «очнулось», прошло много лет.
ШКОЛА И. УНИВЕРСИТЕТ
Даже
Собственным сомненьям
Он готов давать отпор.
Все ему предельно ясно
В этом мире
И в себе.
Роберт Рождественский.
Ночь главного соблазна
Весной 1948 года нам с Леней Пажитновым поручили в школе сделать доклад о Коммунистическом манифесте. В мае того года отмечалось столетие этого основополагающего марксистского документа. Конечно, и до этого я был уже изрядно сбит с толку школой, пионерством, комсомольством, всей официальной жизнью. Но та ночь, когда я прочитал Коммунистический манифест, оказалась ночью ГЛАВНОГО СОБЛАЗНА. Я был потрясен. Тогда ночью все вдруг стало ясно, как солнце. «Первая колонна marschiert, вторая колонна marschiert, третья... четвертая, наконец, пятая...» Пять формаций...
Все, что я знал по искусству, литературе, все прочитанное ранее вдруг показалось мишурой, все прежние знания – чепухой. Мне вдруг открылась абсолютная истина. Возникла абсолютно не контролируемая самим собой возможность прыгнуть, точнее, перепрыгнуть через века культуры и сразу попасть в избранные из избранных, попасть мгновенно. Искус был слишком велик.
Я вступал в марксизм (как в высший духовный орден) добровольно, не понимая, что я уже запутан и не доброволен. Этим вступлением я сразу становился не то что наряду, а выше всех гениев человечества – немарксистских, антимарксистских, некоммунистических, антикоммунистических и всех прочих. Мне уже незачем было их изучать – просто потому, что марксизм их всех превзошел. А уж вступление в партию (спустя годы) лишь «организационно» закрепляло мое вступление, посвящение – куда? – В ВЫСШУЮ РАСУ! – и ума, и чести и совести. Можно ли было тогда понять, что все эти три слова были выворочены? Не ум, а подлейшая хитрость. Не честь, а обоснование «права на бесчестье» (Достоевский), не совесть, а принципиальнейшая бессовестность.
ФОТО 067
Потом, уже в университете на философском факультете и в аспирантуре, будут другие ночи – чтение «Бесов». Запойное чтение русских и западных философов. Увлечение Радищевым. Прочел всего Бердяева, всю веховскую литературу, начал Достоевского... Жуткое осознание своей безграмотности и – страстный ликбез. Читаю Бердяева – на каждом шагу неизвестные имена. Бёме... Кто такой? Лезу в энциклопедию. Неприлично, однако, знакомиться по энциклопедии. Нахожу самого Бёме, читаю. И так многие десятки имен. А еще был кружок философа Эвальда Ильенкова, где штудировали раннего Маркса…
Но впервые пригубил я чашу коммунизма именно в ту первую ночь и испил эту чашу до дна, до капельки, вылизал. В университете написал диплом о вожде: «И.В. Сталин о реальности политики мирного сосуществования». Очень уж хотелось мира, и я, как последний болван, поверил вождю на слово. Хотя, к маленькой чести своей, скажу, что в сочинении на аттестат зрелости – на «общую тему» – написал такую фразу: «Советский солдат встретился с американским на Эльбе. Они никогда этого не забудут». Я имел в виду не что иное, как – Америка должна полюбить социализм. Все равно мне на ушко шепнули: «О встрече на Эльбе лучше не писать».
Но, несмотря на всю марксистско-ленинскую (да и сталинскую) зашоренность мозгов, в университетские годы и в аспирантуре началось мое противостояние официальной философской «науке».
В 53–54-м годах мы, несколько аспирантов философского факультета МГУ (Л. Филиппов, ныне покойный, человек на редкость светлый и талантливый, Е. Плимак, И. Пантин и я), изучая труды наших научных руководителей, обнаружили, что они построены на плагиате и фальсификации, а докторская диссертация одного из них, члена-корреспондента М.Т. Иовчука, была даже предусмотрительно изъята автором из библиотек. По мере нашего «расследования» вскрывались новые ужасающие факты: заведующий кафедрой русской философии И.Я. Щипанов, подготовивший докторскую диссертацию «Русские просветители второй половины XVIII века», в действительности не был ее автором. Во времена борьбы с космополитизмом он пригласил к себе на кафедру способного ученого-философа, преследуемого в те годы еврея Светлова, и, гарантировав ему небольшую зарплату, предложил сделать работу, которую потом выдал за свою. Больше того. Щипанов оказался не просто плагиатором и фальсификатором, но и доносчиком и, того хуже, растлителем малолетних. О последнем узнали случайно.
В парторганизации университета меняли партбилеты. И вот однажды к нам прибегает молодая преподавательница Валя Бурлак (нас многие тогда тайно поддерживали) и рассказывает: она проверяла в райкоме личные дела коммунистов философского факультета и обнаружила, что у Щипанова две «персоналки» за растление малолетних. Но отделался он лишь строгачами. Спас его П.Н. Поспелов. Всю ночь мы дебатировали, имеем ли нравственное право использовать этот аргумент в теоретической полемике. Пришли к выводу: ни в коем случае. Это нас недостойно. Решили вначале ограничиться теоретическим разбором его докторской диссертации. Кажется, в тот год Щипанова и его сотоварищей – Иовчука и Васецкого – выдвигали на Сталинскую премию за учебник по русской философии. О нашей работе на факультете уже ходили слухи. К тому же мы сами «прокололись». Один из нас забыл отпечатанный на машинке экземпляр наших разоблачительных заметок по поводу диссертации в телефонной будке. А поскольку на папке было написано: «И.Я. Щипанов, философский факультет МГУ», нашедший ее добросовестный гражданин прямо передал адресату.
Все ударились в панику. А я обрадовался. Ну и пусть всё знает. Представляю, как трусить будет... Хотя уже понимал, что от него можно ждать всего. Да еще секретарь нашей кафедры Морозова (имени не помню) как-то отозвала меня и сказала очень серьезно: «Юрочка, умоляю, оставьте это дело. Они вас съедят, убьют. Я же их знаю». Она была женой известного историка философии, которого они как раз съели и убили.
Вскоре и я получил первый хук от своего «учителя». Но, пожалуй, стоит рассказать вначале историю, как я стал аспирантом Щипанова. 1953 год. Кончаю университет, сдаю госэкзамены. Все, естественно, беспокоятся, какое будет распределение. Неожиданно меня вызывают в партком и предлагают аспирантуру, достаточно цинично определяя принципы: в аспирантуру идет командный состав комсомола и члены партии. «Вы, Карякин, идете как практически бессменный секретарь комсомольской группы, Плимак – как член партии, фронтовик. Об этом никто не должен знать». Я взбесился, наговорил что-то о несправедливости, хлопнул дверью и все рассказал ребятам из своей группы. Кстати, цинизм наших «учителей» на философском факультете не знал границ. Еще деталь. Вызывает меня Иовчук и говорит: «Ну что вы связались с Плимаком и Филипповым? Да еще этот Пантин к вам прилепился. Вы же такой талантливый, самостоятельный. У вас все впереди...» Я срочно собрал всех своих, и вдруг выясняется, что то же самое было сказано каждому из нас.
Так или иначе, но автоматическая аспирантура для меня отпала. Мне предложили ехать в Новосибирск, я согласился. Но на распределительной комиссии заведующий кафедрой диалектического материализма З.Я. Белецкий (не знаю, почему он мне симпатизировал) неожиданно сказал:
– Беру Карякина к себе на кафедру.
– Я вам очень благодарен, Зиновий Яковлевич, но не пойду.
– Почему?
– Я решил идти на кафедру русской философии. Вот отработаю свои годы по распределению, вернусь и все равно поступлю в аспирантуру по русской философии.
И вдруг Щипанов:
– А мы вас сейчас возьмем.
Я, конечно, не знал тогда, что между Белецким и Щипановым была смертельная вражда.
А когда я уже сдал вступительные экзамены в аспирантуру, Щип (как его звали студенты) обнял меня, поцеловал, благословил. Взял он меня, конечно, себе на голову. И вот теперь, обнаружив, как далеко зашли научные исследования Карякина и его товарищей, решил быстренько от меня освободиться. Придумали самый пошлый предлог для исключения из аспирантуры – «Аморальное поведение на экзаменах, выразившееся в том, что Карякин пользовался шпаргалкой». А дело было так. Сдавали аспирантский «минимум» по западной философии. Всегда перед самой сдачей бывает несколько вопросов, ответы на которые никто не знает. У нас таким вопросом были «Пролегомены Канта», работа дьявольски трудная для понимания. Озлившись на себя, я взял да законспектировал ее подробнейшим образом на машинке, поэтому знал наизусть и, может быть, даже немножко понимал. Показал конспекты тем, кому это надо было, а когда пошел сдавать экзамен, пошутил: «Да вы не беспокойтесь, ребята. «Пролегомены» должны попасть мне «. Взял билет – и точно, они самые. Уселся за стол, положил чемоданчик, взял оттуда бумаги (чемодан оставил открытым) и сижу, жду. Подходит наш парторг, спрашивает, какой у меня билет, заглядывает в чемоданчик, сверху – «Пролегомены». Забирает, несет к столу и объявляет: «За пользование шпаргалкой Карякин снимается с экзаменов». Я счел ниже своего достоинства что-либо объяснять (наши-то всё знали). Спокойно ушел. На следующий день на факультетском партсобрании декан А.П. Гагарин объявил: за «аморальный поступок» Юрий Карякин должен быть отчислен из аспирантуры. Женя Плимак, член партии, сидел на собрании и ни слова не сказал. Правда, прибежал ко мне ночью: «Юра, прости, я тебя предал».
А еще через несколько дней должен был состояться большой Ученый совет факультета, где среди прочего стоял вопрос о моем исключении из аспирантуры. Перед этим человек пять философского «генералитета» меня уговаривали: «Вы же понимаете, что не в шпаргалке дело, а во всей этой возне с докторской Щипанова. Признайтесь, что вы перегнули, покайтесь чуточку, и вас оставят...» Накануне у нашей четверки был свой «военный совет». Решили, что я должен покаяться ради дела. Очень хорошо помню: сам промолчал. Буркнул: «Ладно...» На Ученом совете заявил (первая фраза): «Я очень раскаиваюсь». Пауза. Тишина. «Раскаиваюсь в том, что мы не довели расследование до конца. А дело совсем не в докторской, а в доносах Щипанова и в том, что все вы его покрываете...» О доносах Щипанова мы узнали от какого-то странного человека из отдела кадров, конечно гэбэшника, который, не знаю уж по каким мотивам, пошел на «тайную» встречу с нами.
Исключили меня единогласно. Правда, через месяц-другой восстановили, но не потому, что признали нашу правоту в борьбе со Щипановым (все было еще впереди), а потому только, что раскрылось так называемое «Александровское дело», в котором были замешаны Еголин, И.Я. Щипанов, М.Т. Иовчук, конечно, и сам Г.Ф. Александров. Мы же, четверка мушкетеров, продолжали работать над Щипановым. И когда закончили дело, ребята делегировали меня для решающего разговора с ним. Как-то под вечер с кафедры я позвонил ему домой и заявил:
– Иван Яковлевич, мы закончили. Хотим вам отдать.
– Приезжайте. Я живу на Песчаной.
– Нет уж, это вы приезжайте на кафедру.
Примчался как миленький. Очень хорошо помню. Бледный, руки дрожали. Просмотрел нашу работу. Обмяк, потом как-то встрепенулся и свистящим шепотом и как-то мечтательно сказал мне: «Выступи вы годом-двумя раньше, быть бы вам лагерной пылью» (оказалось потом, что и на этот счет был у него большой опыт).
Так вот и сказал. Буквально. Учитель ученику...
Очень много дал мне этот урок. На всю жизнь его запомнил. Холодом трупным повеяло. Но на всю жизнь запомнил и трусливую измятость его лица, и пальцы дрожащие, когда он лихорадочно листал нашу работу, и пот на лбу, и глаза эти, всегда водянистые и бегающие, а тут вдруг на мгновение застывшие, заледеневшие. Запомнил я эту мечтательность, этот зловещий шипящий шепот.
С того момента всякий раз, когда вижу, угадываю ту «мечту» (сослать бы тебя в лагерь, загнать за Можай!), когда слышу, чувствую тот шепот, – обжигает вдруг какое-то веселое, отчаянное и холодное бешенство, которому, однако, нельзя давать воли. Его все равно надо сдержать, преодолеть и обязательно переключить, превратить в работу. Отрицанием одним никого, ничего не победишь, даже отрицанием сверхочевидной мерзости. Спасает, побеждает только работа, одна работа, положительная, созидательная, пахотная, сеятельная.
На разоблачении одного лишь Щипанова мы не остановились. Мы говорили, писали о фальсификациях в работах других профессоров факультета. В ответ в чем только нас не обвиняли! На какую только «мельницу» не лили мы воду, чьим «интересам» «объективно» не служили, кому только «на руку» не играли! Но мы упорно пробивались в печать и пробились – сдали передовую в журнал «Партийная жизнь». Увы, публикация оказалась трагической.
Главным редактором журнала был Аблин, ответственным секретарем – муж одной нашей преподавательницы. Передовая «За принципиальность в науке» заканчивалась абзацем: «Такие факты оказались возможными только в обстановке полной беспринципности, царящей на философском факультете». По тем временам это была неслыханная победа. Мы уже держали в руках чистые листы.
Сидим в Горьковской библиотеке, в аспирантском зале. Пантин побежал покупать журнал. Возвращается. Лица на нем нет. Шел дождь, но, по-моему, на лице у него были не капли дождя, а слезы. Вместо того абзаца, вырубленного (и это было видно по бумаге), читаем: «К сожалению, эти факты дают повод некоторым необъективным критикам охаивать всю работу философского факультета, в целом положительную». Кто нас продал, до сих пор точно не знаем. Грешили на, дескать, струсившего в последний момент ответственного секретаря. Через два дня в «Правде» некролог: скоропостижно скончался Аблин. Потом выяснилось: узнав о статье, Щипанов, Иовчук и Васецкий помчались к Аблину, но его не оказалось дома, он был на даче. Они – туда. Что уж там было, столь же неизвестно, сколь и легко вообразимо. Аблин ведь тоже был не без греха, и они об этом знали. После разговора с этой философской бандой вернулся он в Москву и отравился газом в своей квартире. Так что дело, которым мы занялись бодро и весело, закончилось смертью. Тут-то и начали открываться глаза.
Вот тогда я впервые отчетливо понял, из-за какой, в сущности, пустяковины вокруг диссертации заварилась такая невероятная каша, которую расхлебывали и деканат, и ректорат, и журнал «Партийная жизнь», и ЦК. Факультет, да и весь университет лихорадило. Была создана общеуниверситетская комиссия во главе с деканом исторического факультета А.В. Арциховским, профессором А.В. Западовым (факультет журналистики) и секретарем комсомольской организации Феликсом Кузнецовым. Комиссия, кстати, вынесла решение в нашу пользу. Так вот, если из-за нас, молодых, искренне верящих в марксизм аспирантов, заварилась такая каша, то что же и как происходило раньше?! В те мгновения и придумал я «мое правило»: «Множь, множь на миллион, и тогда, может быть, начнешь понимать».
Была, кстати, еще одна попытка опубликовать в печати результаты наших «исследований». Иван Рябов, знаменитый тогда фельетонист из «Правды», познакомившись с нашим делом, написал фельетон для «Литературной газеты». В подготовке его принимали участие – я тогда с ними и познакомился – прекрасные журналисты Александр Галинский и Артем Афиногенов. Но повторилась история с «Партийной жизнью», правда без трагического конца: опять кто-то настучал, и фельетон просто не напечатали, хотя он был набран. Однако в конце концов вышла статья в «Известиях» о Щипанове и «щипановедении».
Срок аспирантуры заканчивался. Диссертации не было. Тема диссертации моей несчастной поначалу была что-то вроде: «Зарубежные фальсификаторы русской философии второй половины XIX века». Потом наткнулся на Бердяева, увлекся (но еще далек был от постижения). А поскольку за время сидения в спецхране Ленинской библиотеки я подружился с главным библиографом, у меня открылись возможности увеличить заказы на зарубежную литературу. По моему предложению спецхран навыписывал чуть ли не всего Бердяева. Во всяком случае, я прочитал все главное («Правда и ложь коммунизма», «Философия неравенства», «Истоки и смысл русского коммунизма», «Русская идея», «Самопознание», «Смысл истории», «Достоевский», несколько десятков номеров бердяевского журнала «Путь», «Современные записки», «Новый град»... В результате переменил тему: «Бердяев». Научным руководителем согласился стать Тараканов, Щипанов был уже врагом.
Дни и вечера пропадаю в спецхране Ленинки, забыв обо всем. Но наступает неотвратимо аттестация. У меня готовы две главы по Бердяеву, а на кафедре новая тема не утверждена и потому грозит новый провал, уже посерьезнее. Но так как по первой теме материала было много, то за 2-3 дня мы вчетвером (Женя Плимак, Ленечка Филиппов, Игорь Пантин и я) что-то сварганили и, дав произнести Щипанову торжествующую речь о том, что тема «Бердяев» не утверждена, что же будем делать с Карякиным, я – «Как что будем делать? Будем читать две главы по утвержденной теме». И – вручил. Кстати, Тараканов меня спровоцировал, хотя в начале поддержал, а, в сущности, продал. Но вышло все к лучшему. Тогда я ничего не понимал еще в Бердяеве и ничего лучше, чем написать галиматью на тему «Классовая сущность внеклассовой философии Бердяева» не мог. Бог спас от позора.
Ну, а какой итог?
Эта наша борьба со Щипановым стала хорошей проверкой на прочность нас самих. Вначале, когда нас было трое – Плимак, Филиппов и я, – позвали Левушку Скворцова (помнится, образованный, спокойный) и предложили присоединиться к нам. Ответ: «Ребята, я вижу, вы правы, я на вашей стороне, но я просто боюсь. Они меня съедят, а у меня жена и дети». Было сказано так буквально, что мы даже зауважали его за прямоту. (Кстати, много лет спустя Скворцов стал вместо Ивана Фролова, видимо, по схожести характеров, помощником П.Л. Демичева, секретаря ЦК по идеологии. Именно он зарубил в 1979 году нашу с Э. Климовым заявку на фильм по «Бесам».) И в то же самое время к нам пришел вдруг совершенно незваный И. Пантин и в присущей ему занудной манере объявил: «Я долго думал и решил, что я должен быть с вами, потому что потом я себе этого не прощу».
Все мы проходили проверку на прочность характера, но и мозги наши бедные тоже претерпевали испытания и мучения. У многих, да, кажется, и у меня, были от природы неплохие «котелки». Но в них долго, очень долго варили дерьмо, да еще требовали зазубривания сталинских «классических» текстов. Вспоминаются совершенно идиотические эпизоды из той жизни.
1953 год. Госэкзамены. У меня билет «Работа И.В. Сталина “Беспартийные чудаки”». Ну, уж Сталина мы зубрили, вызубривали. Закрываю глаза – встает страничка: «…беспринципность, бесхребетность… Такова беспартийность». Васецкий, председатель комиссии: «Вы пропустили один пункт». Напрягаюсь. Снова всплывает страничка, и я с нее считываю. В восторге воплю: «Отсутствие физиономии». В ответ столь же восторженное, почти сладострастное одобрение Васецкого.
Он же (красная рожа сатира) несколько позже принимает экзамены уже в аспирантуре. Долдоню по билету: «Пугачевское восстание… Пугачевское восстание». «Как, как?» – настороженно спрашивает Васецкий. Мгновенно соображаю: ведь только что вышло Постановление ЦК «О культе личности и борьбе с его последствиями». Леплю с восторгом: «Восстание народных масс во главе с Пугачевым». И у Васецкого опять восторг и вожделение. А потом, уже при Хрущеве, готовимся отмечать какой-то праздник. Васецкий, парторг кафедры, в ударе: «Ну, а для полного веселья сделаем… как его… кукурузник, фу-ты, капустник». Вот проникся так проникся. Но и мы недалеко ходили. Ведь как предательски точно соображали мои мозги, всякий раз вспоминая нужное постановление ЦК партии.
Но доходили и до философского факультета МГУ новые веяния. К 1956 году, к ХХ съезду, мы были, кажется, вполне подготовлены. И тем не менее… Помню, как Плимак прибежал ко мне ночью, чуть не плача: им, членам партии, прочитали секретный доклад Хрущева. У него потрясение и обида. Рушились основы веры.
В стране все кипело, что-то проклевывалось. Оттепель. Дудинцев, Эренбург, Гранин, Яшин... Особый рассказ – о тогдашних кружках. Ходил, наверное, по десяткам, но почему-то не пристал, не прилепился ни к одному. Жаль, что не знал я тогда о кружках шестидесятников из того, XIX века. Но все равно бросилось в глаза: за всеми яростными криками, лозунгами – борьба самолюбий. Вначале потрясло. Потом стал приглядываться именно с этой точки зрения. Все себе нравились. Один смелее другого. Маленькие вожди... Отталкивало.
Насколько глупы мы были тогда при жажде правды, говорит уже то, что даже умнейший из нас Юра Левада пришел в восторг от политики Мао, который ссылал «номенклатуру» в деревню. В ходу были цитаты (теперь-то понимаю, что совершенно популистские и глупые) из ленинской работы «Государство и революция» о зарплате чиновников не выше рабочего.
Нельзя не вспомнить и о собственном идиотизме. На третьем курсе (я был членом комсомольского бюро, а Плим – секретарем) мы с ним придумали взять всем курсом обязательство законспектировать «Краткий курс». Но так как мы были крайне честными, то сначала, не щадя себя, законспектировали сами. Никто не устоял. Конспектировали все как миленькие, да еще с энтузиазмом. Только один белокурый, голубоглазый, нежный юноша подошел ко мне и невинно спросил: «Неужели вы не понимаете, что делаете?» – «А что?» – «Ну, не надо этого делать».
На последних курсах и в аспирантуре увлекся ранним Марксом: «К критике гегелевской философии права», «Дебаты о свободе печати», «Святое семейство», – читал, упивался... Тут главенствовал Эвальд Ильенков. Собирались у него на квартире, вернее в его комнатке в коммуналке раз в неделю непременно. Среди других молодых «философов» выделялся Александр Зиновьев желчным умом и особой логикой. Всегда была «вагнерова уха» (это я так прозвал). Эвальд знал насквозь и обожал Вагнера и почти всегда, когда бы ты к нему ни пришел, он, открывая дверь, прижимал палец к губам: «Тише, тише, сейчас такая-то часть «Нибелунгов». Слушал Вагнера сутками.
Как ни странно, ускорению моего развития очень помогло изучение российской истории XVIII века. Радищевым занимались с Плимаком всерьез. Царствование Екатерины знали назубок. В 60-х годах XVIII века ведь и была самая первая оттепель на Руси (почему-то все «оттепели» в России приходятся на 60-е годы.) Начала Екатерина с «Комиссии по составлению уложения», с конкурса на лучший земельный проект Вольного Экономического Общества (засадила на какой-то, кажется, подмосковной даче лучшие умы), с отмены персональных карет... А какая вольница была в печати! Сколько новых изданий! Крылов начинал почти как Радищев. Аналогии, аналогии, аналогии (совершенно сознательно).
Тогда же мы познакомились с Серафимом Александровичем Покровским. Вот уж был тип, так тип! В конце 20-х он написал письмо Сталину, Сталин ответил, а потом высек: «Полагаю, что настало время прекратить нашу переписку». Ответ Сталина был опубликован в «Вопросах ленинизма», и поскольку работа выходила одиннадцатью изданиями, Серафима каждый раз сажали, но потом выпускали. Он нам казался блестящим ученым. Поддержал наши исследования по Радищеву, а потом случился казус.
Я придумал собрать все зарубежные отклики на радищевское «Путешествие» с конца XVIII века до ХХ. Засели, не щадя себя. Занимались темой: «Радищев – Франция (Французская революция)». Набрали около четырехсот откликов. Показали Покровскому. Он взял да опубликовал все под своим именем. Я приехал к нему на Кировскую, рядом с чайным магазином, с намерениями «физическими», но, войдя в эту старинную квартиру (у него там была только одна комната, замызганная, жалкая), не нашел ничего лучше, как сказать, что это нечестно... Потом узнали (разбиралось дело в Юридическом институте на Фрунзенской улице): Покровский, оказывается, был сексотом, донес на одного аспиранта, того посадили и сгноили. Дело подняла мать аспиранта. Покровского исключили из партии. Последний раз встретил его в метро. Он сидел. Я подошел и глупо, по-мальчишески (примерно так, как потом Молотову, повстречав его на улице Грановского), брякнул: «Вы – подлец». Помню его жалкий, пришибленный вид. Промолчал.
В связи с нашей работой о Радищеве помнится интересная поездка в Ленинград в 1955 году. Сначала поясню: в советской исторической и философской науке Радищев изображался как революционер. Мы же пришли к выводу, что Радищев отвергал как либеральный, так и революционный проект. Сходные мысли нашли в одной статье неизвестного нам исследователя Г.А. Гуковского в сборнике о Радищеве (публикация 1938 года). Оказалось: наше открытие было сделано им. Женя Плим огорчился (у него вообще были наполеоновские планы насчет нашей будущей книги). Я обрадовался: подтверждение, что мы на верном пути. Собрали мне денег и отправили в Ленинград на встречу с учеником Гуковского Г.П. Макогоненко. Перед этим мы нашли статью Макогоненко о «Путешествии» в каком-то сборнике 1938 года. Пришел к Макогоненко. Хороший разговор. Но он заклинал не только не ссылаться на него, но и быть как можно осторожнее. Я тогда по молодости запрезирал его за трусость. Это было несправедливо. Его самого чуть было не посадили следом за Гуковским, который так и погиб в лагерях.
Потом – пошел к Бабкину. В первом томе трехтомника Радищева было так: на первой титульной страничке, крупно: главный редактор Г. А. Гуковский. На самой последней – мелко: техред. Бабкин. В третьем томе уже: главный редактор – Бабкин, Гуковского и след простыл. Мы тогда еще не знали, что его посадили после войны за космополитизм и посадил «технический редактор» Бабкин. Принял он меня тоже радушно. Запомнил две вещи: первое, Бабкин раскопал (а может, украл у какого-нибудь другого Гуковского) картину: «Дней Александровых прекрасное начало» – Александр Первый в кругу своих советников, в их числе Радищев. Второе: где-то в местах ссылки Радищева наши солдаты наткнулись на целую библиотеку, принадлежавшую Радищеву. Там и рукописи были. (Книги ему все годы ссылки возами слал граф Шувалов.) Все или почти все пошло на курево. Мы тогда собрались было туда ехать. Понимаю, понимаю, другим, после нас, все это, наверное, скучно, но ведь это была наша реальная жизнь. И другой не было тогда. Не ввяжись во всю эту историю, не знаю, что бы из меня получилось. Уж чисто-то научная академическая карьера, полагаю, мне была обеспечена. Что-что, а усидчивость да и любознательность были природными. Диссертацию я, конечно, не защитил, никакой возможности для этого не было.
Стоит вспомнить и историю с Дудинцевым. «Не хлебом единым». Мы организовали на факультете обсуждение романа. Скандал. Но начальство само его замяло. Не из-за нас, а из-за себя. Общеуниверситетское обсуждение проходило в Ленинской аудитории старого МГУ. Почему-то я сидел в президиуме. Очень хорошо помню филологического мальчика, маленького-маленького, черненького-черненького. Перед этим он был с нами в военных лагерях на сборах. Я его тогда назвал «белой мышкой» среди пьяных черных котов. Он выскочил на трибуну: «Бей в барабаны, не бойся!..» (не процитировав до конца) «...целуй маркитантку сильней». Выступил Дудинцев: «Барабан барабаном... Но знаете, я недавно приобрел автомобиль и начал учиться водить его. У меня хороший учитель. Мы ехали по крутой извилистой дороге. Шел дождь. И вот он раз и навсегда приучил меня: на поворотах, действительно, осторожнее надо». «Не хлебом единым» сравнивали с «Что делать?» (ну и каша была у всех в головах).
Помню еще одного университетского товарища. Блюм, худенький еврей с копной черных волос, бедный как церковная мышь. Хотел перевернуть мир, шепнул: «А знаешь ли ты, что все машинки пишущие в КГБ на учете?». Писал листовки зажигательные. Все обо всем знал – от Венгрии до Африки. Всегда имел свое credo. Голодный, оборванный, приходил к нам с Зоей (моя первая жена) на квартиру, когда мы жили у тестя, с новыми листовками, с новыми идеями. Сейчас-то я понимаю: гимназист из «Бесов» или Ванскок мужского рода из «На ножах». Кажется, от чахотки сгинул.
Люди на факультете иногда исчезали. Трех-четырех на курсе арестовали. Одного – за чтение фельетонов Плеханова о Ленине. Второго – за слушание «голосов», третьего – за чтение «Британского союзника»...
А все-таки не все было дурно. На своих семинарах Матвей Яковлевич Ковальзон, когда начиналась перепалка (а каждый семинар превращался в некоторое подобие политического процесса), одергивал: «Вот ты, имярек, обвиняешь такого-то в том-то. Но сначала изложи точно его взгляды и спроси его, подписывается ли он под твоим изложением. И тогда уж критикуй, а если не подписывается, уточняй, но не приписывай того, чего он не говорил и не думал».
Вспоминается еще один эпизод идеологических ухищрений. Готовлюсь к семинару по Шестому съезду ВКП(б). Перечитал об этом в «Кратком курсе». Все понятно. А у отца оказалась стенограмма этого съезда. Читаю – не верю глазам. В «Кратком курсе»: враги народа, предатели Рыков, Троцкий, Каменев, – за явку Ленина на суд, Сталин – против. Сталин спас жизнь вождя революции. В стенограмме все наоборот. Ошалел. Ничего не мог понять. К утру догадался: на первой странице тушью замазаны фамилии. Разглядел на свет. Рыков, Каменев… Враги народа. Значит – сфальсифицировано. Начинается семинар. Выступаю. В «Кратком курсе» – так, в стенограмме – этак. Безмолвие абсолютное. Бледный преподаватель. И я, торжествующий идиот, разъясняю! А уже все приготовились к посадке.
Вспоминается и смешное. Как-то писали по заказу какому-то человеку, кажется, с Кавказа кандидатскую диссертацию о Маяковском. Писали втроем – Плим, Филиппов и я. Написали за три дня, чуть не умерев от смеха. Заказчик обещал гонорар, но отделался ящиком вина да ящиком фруктов. Потом этот «исследователь Маяковского» стал у них там академиком.
Подводя некий итог нашей жизни и наших баталий в университете, особенно в годы учебы в аспирантуре, нельзя не признать, что боролись-то мы с позиций истинного правильного марксизма. Моя эволюция проходила очень медленно. В основе столь замедленного (и надолго) прозрения лежал атеизм. Но способствовала прозрению, наверное, все-таки какая-то врожденная способность к художественному восприятию. В университетские, студенческие, марксистско-ленинско-сталинские годы все, что было начитано в библиотеке Каринского, все Гамсуны, Ибсены, Шекспиры куда-то ушли, залегли на дно. Иногда всплывали ни ко времени, ни к месту, ни к селу ни к городу, тогда чувствовал внутри себя какой-то раскол. Не хватало ни интеллектуальных, ни нравственных, ни духовных сил осознать его и одолеть. Все время получалось: то, что мне мило, любезно, к чему меня невольно тянуло, – все это оказывалось НЕ ТЕМ. «ОНИ», безусловно, талантливы, гениальны даже, но почему-то не правы. А «МЫ», пусть не талантливы и не гениальны, зато правы. В конце концов это вело (да чуть и не привело) к выводу Петруши Верховенского: сам талант, сам гений – подозрительны как таковые, преступны. И если был у меня талант, то я его начал стесняться, бояться, прятать.
Но был все-таки и другой, главный урок: ввязаться, не струсить, рискнуть...
В ЖУРНАЛЕ «ИСТОРИЯ СССР»
Конечно, не знать – большой грех,
но не желать знать – уже преступление.
Павел Флоренский.
После окончания аспирантуры (защититься мне, конечно, не удалось) долго искал работу. Неожиданно кто-то из друзей предложил пойти редактором в журнал «История СССР», в отдел «История СССР за рубежом». Предложение показалось мне интересным, тем более что я был тогда одержим идеей борьбы с «фальсификаторами истории» (то, что они там «фальсификаторы», сомнений у меня еще не было) совершенно научными методами. Как боролись прежде? – рассуждал я. Отрицанием фактов. Я решил: факты признавать, отвергать лишь «буржуазную» интерпретацию.
Стал железно проводить свою линию – бороться за точность исторического факта. Но тут же столкнулся с трудностями научной иерархии. Я, не «остепененный», принялся редактировать докторов, член-корров, академиков. Должен сказать, что комплекса неполноценности у меня никогда не было, хотя у некоторых авторов наблюдал своего рода комплекс сверхполноценности, как правило, чиновный. Началось все с того, что я «вел» рецензию (дай Бог памяти), кажется, Шаскольского из Ленинграда на какую-то американскую книжку о том, как славяне призвали варягов на Русь. Раньше как было в нашей советской исторической литературе? Никаких варягов (как и Христа) отродясь не было. Я начитался литературы, пришел к выводу: были варяги, были, и никуда от этого не денешься. Заставил автора признать этот факт и дать более объективную интерпретацию.
Потом вел статьи академиков М.Н.Тихомирова и М.В.Нечкиной. Выработал два психологических правила:
Представить себя в возрасте моих авторов, на их уровне, в их звании.
Представить, в силу своего воображения, их своими школьными или студенческими однокашниками.
На первое не потянул, а второе получилось.
Было у меня и еще одно правило. Я мог не знать тысячи фактов, которые знали мои именитые авторы, но я должен был знать хотя бы один факт, который они не знали. И я начинал с этого факта. Вообще работа в журнале приучила меня к строгости, дисциплине в обращении с фактами истории, к работе с «первоисточником».
Приходит академик И.И. Минц, а я уже знаю: если бы вместе учились, он был бы отличником и фискалом, а поэтому я с ним сразу в этом тоне и начинаю разговор, да еще бью его каким-то неизвестным ему фактом. Скандал, жалобы. «Кто он такой, чтобы с нами так разговаривать?!» Не знаю почему, но мой шеф в журнале М.П. Ким меня любил и все время покрывал.
Была у меня еще одна дурь. Подростком я узнал, что Толстой переписывал даже «Войну и мир» чуть ли не двадцать раз. Со всей скоропалительностью и радикализмом моего возраста я «очень просто», абсолютно железно решил для себя: переписывать столько раз, во сколько раз я бездарнее Толстого. Мысль, как я теперь вижу, столь же глупая, сколь и гениальная, но, пожалуй, это единственное, чему я остался верен даже до сего дня, так и не узнав, во сколько раз я бездарнее.
Так вот, с этим своим радикализмом я требовал от всех авторов того же. От никому не известных тогда Георгия Ардаева и Евгения Амбарцумова до академиков Минца и Нечкиной. Боже мой, сколько было скандалов! А я, ничуть не смущаясь, когда меня вызывал мой шеф Ким, говорил: «Но Толстой же переписывал двадцать раз, а они не Толстые». Тот разводил руками: «Чёрт тебя подери, не знаю, что с тобой делать». А я брякал: «Вы меня извините, Максим Павлович, но вы тоже... у вас тоже не больше двух вариантов. А вы все-таки не умнее Толстого, правда?» Он в сердцах: «Пошел к черту! Надоел!»
Так или иначе, это были четыре года очень серьезной работы и беспрерывного чтения. А еще и влияние на меня тогда молодых В.П. Данилова, В. Ковальского, С.О. Шмидта. Многому научился.
Написал свою первую статью, даже не статью, а пространную рецензию на книгу С.Л. Франка «П.Б. Струве. Автобиография». Писал, в сущности, абсолютно с прежних позиций, но с какими-то, сейчас даже и не упомню, проблесками, так что какой-то белоэмигрантский журнал отметил – «новый тон полемики». Хотя сегодня, конечно, стыдно за нее, пусть объяснимо, но все равно непростительно. «Завелся» Нечаевым. Это пошло от Бердяева. Написали с Плимом статью – чудовищную.
Вспоминается еще одна забавная история. Моим непосредственным начальником был зав. отделом критики и библиографии. Тупица невероятный, и к тому же безграмотный. Написав какое-нибудь письмо в инстанцию, просил: «Юрий Федорович, прочитай, поправь». При этом все время на меня доносил, поскольку ему казалось, что я хочу его подсидеть. Он и не догадывался, что я его всегда защищал перед начальством. Как-то М.П. Ким, уставший от его доносов, сказал мне: «Слушай, давай, мы его выкинем, и ты будешь заведовать отделом». «Лучше совсем уйду из журнала, – ответил я, – если вы того хотите, но на это я не согласен. А кроме того, влезьте в его шкуру, представьте, что с ним было бы в Германии (он был евреем). И ведь хорошо воевал, у него два ордена Красного Знамени». Но когда я подал заявление в партию, мой «подзащитный» меня первый и завалил. А потом как-то вызывает меня Ким, показывает заявление этого героя: «Ю.Ф. Карякин после работы в кабинете главного редактора пил с друзьями водку и пел антисоветские песни...» Ким: «Ну и надоел же ты мне. Придется идти на партбюро. Сам разбирайся».
Пошел я на партбюро. Пришлось выкручиваться. Пели мы частушки про Фурцеву и про то, как
…буду тискать сиськи я
самые марксистские.
Я, конечно, отрицал, что мы пели антисоветские песни, и предложил автору доноса повторить то, что он слышал. Вот тут-то герой испугался и ни в какую не хотел повторять услышанную им частушку.
Но вообще атмосфера в журнале была чистая, веселая. Соревновались в правде. Другой вопрос, как кто ее понимал. Вспоминается наша журнальная жизнь как какое-то безудержное веселье, бесконечные хохмы и работа, работа, работа... Бывали и хохмы довольно жестокие. Работал в журнале замечательный историк Владимир Дробижев. В нем много было доброго, хорошего, нутряного, идущего, наверное, от врожденной физической силы. Сначала я воспринял его как Пьера Безухова. Вообще я заметил в себе: за очень немногими исключениями, я отношусь к человеку с самой доброй его стороны, которая то ли есть в нем, то ли мне мерещится. Володя был чемпионом университета по тяжелой атлетике. У нас заведовал отделом социализма. Открыл тогда тему действительно серьезную: «Социальный состав руководящих работников в 20-х годах». Найти новый архив – для историка почти Эльдорадо. А так как я ему ни в коей мере не мог быть соперником, то он на меня и вываливал все свои открытия. Главное из них – какой-то харьковский архив. И так он мне надоел со своим архивом и со своими открытиями, что я решил его разыграть.
В машбюро у нас были две машинистки – сестры Ирина Николаевна и Зоя Николаевна, очень интеллигентные, милые женщины, которые меня почему-то любили. Пришел к ним и договорился. И вот одна из них звонит Володе:
– Можно товарища Дробижева?
– Это я.
– С вами говорит Вера Николаевна Муторкина, доктор исторических наук. Я слежу за вашими работами, поздравляю вас с ними, а сейчас хочу поделиться одной радостью. Я напала на Харьковский архив.
Моя теория хохм: первый и главный пункт – нужно сначала у «объекта» отбить способность здравого смысла, т.е. ударить в самое больное место, чтобы он перестал соображать. В данном случае это и был Харьковский архив. Обольщенный ее словами и узнавший вдруг, что кто-то тоже докопался до Харьковского архива, Володя просто перестал соображать. Они договорились встретиться. Но я был садист, т.е. отложил встречу на неделю. Через неделю некая Муторкина снова звонит. Опять лесть, опять находки в архиве. Потом невинное: «А сколько вам лет?.. Ну так я надеюсь, что вы не обидитесь и приедете ко мне, потому что, во-первых, я старше вас, а во-вторых, нынче гололед в Москве, я поскользнулась и не могу ходить...» Адрес был мой. Дробижев приехал в воскресенье. Муторкину должна была играть моя жена Зоя. Звонок. Входит Володя. Зоя, она же Муторкина, приглашает его в комнату. Вскользь бросает: «Я слышала, что вы тоже роетесь в Харьковском архиве...» У них идет научный разговор. А в это время брат Зои Володька, человек невероятно талантливый и экспромтный, устраивает коммунальный скандал: «Вера Давыдовна, сколько можно повторять? Нельзя же так себя в туалете вести!..» Зоя, не вытерпев, вышла на лестницу отхохотаться. Но тут я вдруг струсил. Мне показалось, что Дробижев все разгадал и уже разыгрывает меня. Мой-то план был такой: посидит, поговорит, потом она его под каким-то предлогом вытащит на лестницу и «случайно» закроет двери. Он начнет стучать, тут выйду я и, сделав большие глаза, спрошу: «Как ты тут очутился?»
Но вышло так. Зоя снова вышла, а я вошел. Он сидел ко мне спиной. Мощный затылок римлянина, а я ему нежно ладонью по лысине: «Володя, я знал, что ты дурень, но что до такой степени, ей-богу, не подозревал». Он поднялся своей 150-килограммовой громадой. Глаза вылезли из орбит. Я испугался: прихлопнет как муху. Вдруг он упал на пол и стал хохотать: «Я ж предчувствовал». Потом побежал к телефону, позвонил теще: «Вы правы, это Юрка меня разыграл».
Вспоминается еще одна хохма, кончившаяся едва ли не плачевно. Пришел я как-то в журнал «Вопросы философии», где работали ребята с нашего курса и где была дисциплина, несравнимая с нашей. Там трудился и мой однокашник Игорь Блауберг (из немцев), человек абсолютной дисциплины, абсолютной обязательности. Дня через два я позвонил в «Вопросы философии» и от имени сотрудника издательства «Правда» сказал: «У нас тут десятки писем о том, что ни читатели, ни авторы не могут найти на месте никого из работающих, особенно Блауберга и Мамардашвили».
Мераб, человек гениальный, вообще жил по велению своей левой ноги, что и усиливало правдоподобие «доноса» (тут как раз и сработала моя теория).
– А кто говорит?
– Дробижев из «Истории СССР».
Начался шухер. Проверки. Партсобрания, профсобрания. Блауберг неумело оправдывался, ему никто не верил. Через какое-то время на дне рождения Плима, подвыпив, я сказал Блаубергу: «А как у тебя, мерзавец, с дисциплиной?» – «А ты откуда знаешь?» Я проболтался. Через некоторое время звонок. Иван (ответственный секретарь): «Слушай, я, конечно, все понимаю, но так нельзя. У нас партсобрание, и тебе придется прийти». Впал в панику. Вдруг осенило. Иду к Дробижеву: «Володя, прости...» Рассказываю ему все. «Но теперь уже ничего не поделаешь. Тебя вызывают на партсобрание». А так как он еще надоел мне рассказами о своей близости с Минцем, Нечкиной и Степаняном, то я ему: «Ты же их знаешь, ну пусть замнут». Володька помчался к ним. Они – к Ивану и к парторгу Института философии. Никто ничего не понимает. Ну, замяли разбирательство.
ПРАГА
В июле 1960 года по рекомендации моего друга и «автора» (я его печатал в журнале «История СССР») Евгения Амбарцумова, я приехал в Прагу, в международную редакцию журнала «Проблемы мира и социализма».
Сегодня нельзя не задаться вопросом, как меня, беспартийного юнца, к тому же имевшего уже «приводы» в КГБ, пропустили через чистилище «выездной комиссии» ЦК КПСС. Пропустили, а потом и допустили к святая святых – написанию статей (правда, всегда за подписью какого-нибудь генсека братской коммунистической партии), предназначенных стать ориентиром для международного коммунистического движения в выработке новой стратегии и тактики. Не так давно отгремел ХХ съезд партии, мелькнул XXI внеочередной, шла подготовка к боям XXII съезда, хрущевское руководство нуждалось в притоке новой крови и талантливой молодежи.
В международной редакции журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге, который был, конечно, просто дочерним предприятием Международного отдела ЦК КПСС, собрались самые разные представители компартий, от «опасных» итальянских реформистов и умеренно «прогрессивных» французов до неандертальски необразованных коммунистических лидеров «третьего мира», вроде секретаря компартии Ирака Халеда Багдаша. Туда с целью обновления международного печатного органа (журнал выходил на многих языках) направили в качестве шеф-редактора члена ЦК КПСС Алексея Матвеевича Румянцева. Человек чести и либеральных убеждений, хотя его «либерализм» уже был «ортодоксией» для итальянских коммунистов, для англичан и отчасти французов. Сторонник социализма «с человеческим лицом», он пытался, хотя и не всегда удачно, внести человеческий элемент в разрабатываемую им теорию действия экономических законов при социализме. Благодаря ему, благодаря самому времени (после XXII съезда), в журнале царила вдохновенная атмосфера, свободная и творческая.
В начале 60-х Алексей Матвеевич собрал вокруг себя талантливых молодых философов, историков, политологов, среди них: Николай Иноземцев (потом возглавил Институт мировой экономики и международных отношений Академии наук), Анатолий Черняев (многие годы был руководителем группы консультантов Международного отдела ЦК КПСС, потом помощником М.С. Горбачева), известный советский политолог и публицист Вадим Загладин, гениальный философ Мераб Мамардашвили, образованный и талантливый литератор Леонид Пажитнов, мой школьный и университетский друг, Георгий Арбатов (многие годы возглавлял Институт США и Канады), Борис Рюриков (впоследствии главный редактор журнала «Иностранная литература»), блестящий эссеист Евгений Амбарцумов, известный журналист Отто Лацис, Владимир Лукин, один из создателей партии «Яблоко», в настоящее время Уполномоченный по правам человека Российской федерации.
Все они прошли там хорошую школу «полифонии», как сказал бы Бахтин. Марксистская истина оказалась для них не круглым монолитом, замкнутым в себе, а многогранником, который им удавалось какое-то время отшлифовывать, обновлять. И это была своеобразная школа свободы, свободы от зажатости Москвы, свободы дискуссий, в которых «допускалось» многое, хотя все равно это была свобода в рамках пусть расширенной и слегка позолоченной, но клетки.
Вот в эту «румянцевскую деревню», как называли тогда «заграничный» очаг «ревизионизма», и приехал я, молодой выпускник философского факультета МГУ, имевший некоторый опыт редакционной работы в журнале «История СССР». Прикатил этаким крепким круглым монолитным шаром, начиненным марксистской философией, не ведавшим еще о том, что есть множество мнений и позиций, что мои «округлости» тоже будут с годами и опытом работы оттачиваться и отграниваться в отнюдь не монолитный многогранник. К тому же был я в ту пору крайним идеалистом (до идиотизма), представлял себе, что партия должна быть построена по принципу пирамиды: чем выше поднимаются люди, тем они честнее и совестливее. Но вскоре убедился на опыте («рожей пропахал, мозгами занозился») в обратном. Пирамида эта на деле оказалась огромной опрокинутой воронкой, в которой сверху еле шевелится масса коммунистов, среди которых немало честных и искренне верящих в идеалы социализма людей, но воронка затягивает самых пронырливых, карьерных, агрессивных, хитрых, циничных. И только они «пробиваются на самый верх» (как они думают), как в действительности опускаются на дно воронки и через ее опасно жесткий, но такой желанный желоб продираются в другой мир, навсегда отделяясь от массы.
За «мирный путь» к социализму
Приехал я в редакцию журнала с идеей «мирной революции» и «мирного пути к социализму», т.е. прихода коммунистов и социалистов к власти не путем насилия, а используя законные формы борьбы – через выборы. Правда, уже первые беседы с настоящими коммунистическими лидерами насторожили. Я им аргументированно излагаю идею борьбы за власть на выборах (в те годы такова была и официальная установка Москвы, искавшей пути к мирному сосуществованию). Вроде даже их убеждаю, а потом, наивный дурачок, спрашиваю: «Ну, допустим, коммунисты победили, пробыли выборный срок у власти, а потом, на следующих выборах, потерпели поражение, что будете делать?» Ответ всегда один: «Власти не отдадим. И к черту новые выборы». Ответ неприятно поражал – как же так, ведь договорились играть честно, по правилам! Иногда прямо возражал своим собеседникам. За одно такое возражение получил донос в ЦК КПСС от ретивого иностранного коммуниста, члена политбюро индонезийской компартии. Но прошло еще немало лет, пока понял наконец, что для большевистского руководства, да и для «настоящих» вождей коммунизма нет и не может быть никаких правил: нарушать, взрывать все и всяческие правила – вот их единственное правило.
Тем не менее в майском номере журнала за 1962 год опубликовал статью «О мирном и немирном путях социалистической революции», подписав ее придуманным Амбарцумовым псевдонимом – Г. Кар. И статья эта для того времени оказалась настолько неожиданным новым словом, что ее перепечатали во многих изданиях, отнюдь не только коммунистических и социалистических, увидев в ней свидетельство поворота Москвы к новому курсу: отход от политики «холодной войны», ориентацию на мирное сосуществование с капиталистическим миром. Вот некоторые выдержки из этой статьи:
«Международный коммунизм сделал в последние годы новые и важные выводы о путях развития социалистической революции…Вопрос о путях революции всегда является для коммунистов не только вопросом тактики, но и всего их гуманистического мировоззрения… разрядка международной напряженности серьезно облегчает решение назревших социальных задач в капиталистических странах… Мирная революция осуществляется с помощью разнообразных средств. Одним из ее важнейших орудий может быть парламент.
В каком отношении находятся сегодня демократия и социализм, реформы и революция? В чем особенности революционной ситуации нашего времени?.. Как ликвидируется и преобразовывается старый аппарат власти в случае мирного и немирного развития революции? Какую позицию во время революции может занять армия?.. Жизнь идет вперед. Она ставит массу новых задач».
Вообще же за годы работы в журнале «ПМС» я, как, впрочем, и другие «консультанты», написал немало «ревизионистских» статей, которые всегда имели подписи разных генсеков (генеральных секретарей) братских компартий. Тактика всегда была одной и той же: «консультант» приезжал к первому (или генеральному) секретарю, либо тот приезжал на отдых в Союз и к нему посылали для работы все того же «консультанта». Велись долгие или недолгие разговоры на заданную тему. «Вождь» излагал свои соображения, если они у него имелись, или просто выслушивал «консультанта», понимая, что за ними стоит «генеральная линия» первой и самой богатой коммунистической партии мира. Но надо было обязательно заручиться согласием «автора» статьи на публикацию, хотя писалась она потом уже в редакции журнала, зато гонорар получал тот, чья подпись появлялась в номере. Сколько денег тратилось на каждую статью!
Так пришлось мне писать статью за Макса Реймана, для чего ездил в Берлин. В этой первой своей поездке за рубеж «опростоволосился» на таможне, декларировав всю сумму (в долларах, конечно), которую вез в качестве «братской помощи» КПСС. Готовившие эту поездку чиновники из аппарата ЦК просто забыли предупредить меня, что декларировать ничего не надо. Но поскольку все происходило в таможенных границах социалистического лагеря? дело быстро уладили.
Писал статью за финского первого секретаря коммунистов Вилли Песси, что дало мне возможность вольготно прожить месяц в замечательной стране Финляндии. Иногда выполнял и более сложные заказы. Например, впервые на страницах коммунистического журнала была опубликована статья английского лейбориста (левого крыла) Кони Зиллиакуса. Поездка в Лондон, знакомство с очень интересным молодым английским политиком и потом, при прохождении статьи через редакционный совет (читай, через Международный отдел ЦК, его курировавший), настоящее сражение за то, чтобы в коммунистической печати были изложены взгляды лейбориста. Тогда казалось, что каждое «новое слово» в столь уважаемом и издававшемся чуть ли не на 30 языках журнале – это победа над заскорузлыми марксистами-сталинцами. Теперь, оглядываясь назад, нельзя не признать, что журнал «ПМС» был прекрасной кормушкой как для генеральных секретарей и их помощников из братских компартий, так и для «консультантов» Международного отдела ЦК, как, впрочем, и для всей обслуги журнала, от переводчиков и машинисток до наборщиков специальной пражской типографии.
Но были и настоящие «прорывы». Таким «прорывом» для меня стала моя первая статья о Достоевском: «Антикоммунизм, Достоевский и “достоевщина”» в майском номере за 1963 год. Название придумал хитроумный Иван Фролов (после работы в журнале ответственным секретарем он служил в ЦК, умудрился в 1990 году стать последним членом Политбюро КПСС и помощником М.С. Горбачева). Воинствующее название должно было усыпить недремлющее око цекистских надсмотрщиков, а содержание – дать пищу для ума интеллектуалам.
Весть об этой статье разнеслась по Москве и Ленинграду, а потом докатилась и до провинции. Ведь статья эта, несмотря на то, что в ней было много заградительных оговорок, стала своего рода «амнистией» Достоевскому на родине, в Советской России, где он был в течение десятилетий советской власти едва ли не «запрещенным» писателем».
Статья получила широкий и добрый резонанс. Но чем дальше я от нее отходил, тем больше меня что-то беспокоило. В конце концов я решил отдать себе ясный отчет – что именно. И, не сразу конечно, сформулировал для себя основные пункты моего беспокойства, все между собою, конечно, связанные.
Я писал статью так, как будто мне все или, по крайней мере, самое главное о Достоевском уже известно. Я, естествено, прямо так не думал и, наверное, возмутился бы, если бы кто-нибудь мне об этом сказал. Но тем не менее фактически это было так. Я находился как бы в ситуации знания, которое оставалось только обнародовать. Но...
Загнать себя в ситуацию незнания – вот что самое нужное, трудное и почти недостижимое (очень уж страшно). И если иногда что и получается стоящее, то лишь как результат этого «загона» и последующего «спасения». Главная же беда в том, что невольно делаешь только вид, будто познаешь, а в действительности – подделываешь познание, подтасовываешь все под уже известный тебе результат. Не решаешь задачу, а подгоняешь «решение» под заранее данный, «подсмотренный» ответ – как школьник. Но школьник, в отличие от тебя, прекрасно знает, что «ответ» он просто списал, а у тебя – сотня самообманных ловушек на каждом шагу.
Я не понимал или остро не осознавал, что думать над Достоевским – это значит познавать уже познанное им. Познавать познанное, а не рассказывать о якобы тобой познанном. Тут требуются особые усилия, особая, что ли, тренировка для самообуздания.
Я писал о Достоевском, в
сущности, не как о художнике, но как о
философе и социологе. И сам писал не как
критик художественных произведений, а
как социолог. Стиль цитирования был
соответствующим. Получалось, что весь
Достоевский играл роль только «лишнего
подтверждения» уже опять-таки известного
заранее тезиса, пусть самого
распрогрессивного (за это именно мне
многое и простили), был средством, а не
самоцелью. Не понимал я, что первая,
самая главная, самая
трудная, долгая
задача – это как бы понять-исполнить
художественное произведение.
И нечего бояться при этом потерять себя,
нечего бояться, что тебя убудет,– не
убудет, а может быть, если поймешь-исполнишь
точно, то и прибудет.
Пожалуй, можно сказать, что у критиков (литературоведов) есть две тенденции, далеко не всегда сознаваемые: быть нескромным конферансье представляемого художника или пытаться быть добросовестным исполнителем (как, например, хороший дирижер или пианист). Позже меня очень укрепила в этих мыслях Марина Цветаева: «Книга должна быть исполнена читателем, как соната. Знаки – ноты. В воле читателя осуществить или исказить». Тем более – в воле критика.
Конечно, я неоднократно прочитал к тому времени Достоевского (то есть главным образом художественные произведения его). Но все равно, я не имел тогда никакого права писать о Достоевском в целом, обо всем Достоевском. Это право завоевывается (да еще завоевывается ли?) десятилетиями, а не годами. Урок из этого был такой: вначале сосредоточиться на каком-нибудь одном произведении, а в нем – тоже на одной проблеме. Причем – чем на более конкретной проблеме, тем лучше, если только постоянно держать в своем уме и сердце произведение в целом. Вообще самое конкретное – это как бы неповторимая точка пересечения всех общих закономерностей, первичная модель их взаимодействия, их синтеза. И в этом смысле – чем конкретнее, тем и общее (хотя и неповторимее) .
Последний пункт – стыднее всех, и даже до сих пор. Все «отрицательное», все противоречивое у Достоевского я самонадеянно квалифицировал как «достоевщину». Этот поступок не делается лучше оттого, что тогда все так делали, что даже М.М. Бахтин, а не только В. Ермилов, писал о «достоевщине», хотя у первого она была сведена к минимуму (и я, конечно, пошел вслед за ним), а у второго к ней сводился почти весь Достоевский. Я очень хорошо помню, как при этом мне что-то претило, но воли собственному чувству не дал, зародыш собственного мнения удавил, и вот... Гениальный человек, всего себя положивший на алтарь служения своему отечеству, народу, всему человечеству, и – «достоевщина». Хороша благодарность... А если бы так же об «отрицательном», противоречивом у Пушкина – пушкинщина, у Эйнштейна – эйнштейновщина?..
В общем, все пункты (а их, повторяю, много) можно свести к одному: как бы научиться писать так, чтобы потом не брать своих слов обратно? Ответ здесь приходится искать каждый раз заново. Но одно несомненно: сама мысль об этом отрезвляет и дисциплинирует. Усовещивает.
И еще один, уже курьезный комментарий. Статья была настолько популярна в те голодные на литературу 60-е годы, что один весьма известный и не очень порядочный человек сплагиировал ее, и сделал это так неудачно, что получил хорошую печатную оплеуху от моих друзей Коржавина и Икрамова в газете «Известия» (май 1966-го). Вот эта публикация.
Кукольник закашлялся
В журнале «Молодая гвардия» продолжается публикация мемуаров Ильи Глазунова «Дорога к тебе. Из записок художника». Сравнительно молодой мемуарист вспоминает о многом из своей жизни, например, о том, как лет десять назад в Минусинске он «стал свидетелем жаркого спора... о Достоевском». В споре участвовали бывший эмигрант, учитель колледжа, вернувшийся на родину, мастер-кукольник Борис Ефимович и другие. Автор пространно цитирует давний разговор.
Можно позавидовать такой памяти, но память внимательного читателя тоже чего-нибудь стоит.
И вот два журнала лежат рядом: «Молодая гвардия» № 2 за 1966 год и «Проблемы мира и социализма» № 5 за 1963 год. В первом – мемуары И. Глазунова, во втором – статья Карякина.
Записки И. Глазунова:
«Учитель колледжа задумчиво произнес: “Идут острые споры между деятелями различных стран и разных философских мировоззрений о том, каким будет грядущее, о кризисе христианства... И всегда невольно вспоминают Достоевского: помните у Достоевского? Достоевский, этот самый русский писатель, оказывает могучее интернациональное влияние на наших современников... Влияние Достоевского испытали на себе столь разные идейно люди, как Эйнштейн и Леонов, Генрих Манн и Бёлль, Андрей Платонов, Альбер Камю и Сартр, Стейнбек и Фолкнер”».
Статья Ю. Карякина:
«Идут острые споры между деятелями различных стран, между представителями противоположных мировоззрений. О целях и средствах борьбы. О культе личности. О том, каким будет грядущее и будет ли оно. О кризисе христианства... И при этом нередко раздается: «А помните у Достоевского?..» Из всех писателей прошлого этот очень «национальный», «насквозь» русский художник оказался сегодня едва ли не самым всесветным и живучим. Его влияние по-своему испытали столь разные люди, как Эйнштейн и Бердяев, Т. Манн и Ортега-и-Гассет, Бёлль и Леонов, Феллини и Арагон, Сартр и Стейнбек».
А вот слова Бориса Ефимовича, которые также «вспоминает» Глазунов:
«“Не случайно Маркс и Энгельс охарактеризовали «нечаевщину» как апологию политического убийства, как доведенную до крайности буржуазную безнравственность. Достоевский знал, к сожалению, лишь мелкобуржуазные формы социализма. Причем всегда брал в них лишь наихудшее... Увидев, что рабочие в той или иной мере заражены буржуазными болезнями, он не понял, что болезни эти излечимы в ходе пролетарской революции”. Он (кукольник Борис Ефимович) закашлялся»...
Теперь читаем у Ю. Карякина:
«Маркс и Энгельс характеризовали нечаевщину, как апологию политического убийства, как доведенную до крайности буржуазную безнравственность... Он (Достоевский) знал лишь мелкобуржуазные формы социализма (причем почти всегда брал в них лишь наихудшее)... Увидев, что рабочие в той или иной мере заражены буржуазными болезнями, он не понял, что болезни эти излечимы, но лишь в ходе борьбы...»
Итак, учитель колледжа «задумчиво произнес», а кукольник «закашлялся». Эти художественные детали явно принадлежат перу живописца И. Глазунова, точно так же, как и некоторая правка первоначального текста. В жертву исторической достоверности он принес кинорежиссера Ф. Феллини, которого вряд ли очень уж хорошо знали в Минусинске десять лет назад. Напрасно, думается, И. Глазунов заменил Т. Манна на Г. Манна, ибо хорошо известно, что на первого Достоевский оказал значительно большее влияние, чем на второго. И. Глазунов проявил поспешность и безвкусицу в переписывании из статьи некоторых выражений Достоевского. Так, у Достоевского сказано: деньги – «чеканенная свобода», Глазунов списывает: «чеканная свобода».
И. Глазунов сообщает: «Жадно вслушиваясь в спор, я не участвовал в нем, так как в те годы не чувствовал себя достаточно подготовленным к теме Достоевского». Понимать это надо, очевидно, так, что теперь уже автор «чувствует себя достаточно подготовленным». Мы уже отчасти познакомили читателя с этой «подготовкой».
Испокон веку плагиаторы сетуют на капризы памяти. Потому-то следует напомнить истину, которую знали еще древние: если у тебя плохая память, меньше рассказывай о себе.
К. ИКРАМОВ, Н. КОРЖАВИН.
История с Ильей Глазуновым имела некоторое продолжение.
Через несколько дней после публикации в «Известиях» фельетона «Кукольник закашлялся» И. Глазунов позвонил мне в Сокольники (жил я тогда у родителей). Надо же, разыскал телефон:
– Старичок? – (мы не виделись ни разу), – тут чистое недоразумение, редакторы что-то напутали...
Я послал его. Потом, кажется, было какое-то невнятное его объяснение в печати. А еще через несколько дней выхожу как-то из мастерской Эрнста с его помощницей, бредем по бульварам, дошли до Арбата. Тут она показала на угловую башенку Дома от Моссельпрома: «Там Глазунов живет».
Я почувствовал себя на боевой тропе.
– Вы с ним знакомы?
– Да.
– Ну, тогда идем к нему. Представите меня.
Пришли. Подает руку. Особая манера – пальцы «лодочкой». Ручонка маленькая, липкая, как бы сопливая рыбешка. Я тогда еще был в силе и, не отпуская его руки, жестко сжал: «Карякин».
Лицо рыхлое, а напряглось. Глазки забегали.
– Тот самый?
– В каком смысле?
– Ну, эта история…
– Ну да, тот самый, которого вы обокрали, – «рыбешку» его не выпускаю.
– Но мы же объяснились. Напрасно это, старичок. Заходи, заходите когда угодно.
– Когда угодно?
– Да, да.
– Вот мне сейчас и угодно.
Опять заметались глаза.
– Понимаешь, понимаете, у меня сейчас в гостях итальянский кинорежиссер. Впрочем, пожалуйста, пожалуйста, проходите в гостиную.
Будучи пролетарским интернационалистом, я заскучал: нельзя же отвесить пощечину на глазах представителя культуры Запада. Вошел в гостиную. Огромный дубовый стол. Крепкие скамьи. Сидит едва ли не дюжина молодцов с квадратными подбородками, все как на подбор. И.Г. представил нас. Я тут же почувствовал напряжение (по-видимому, они знали об инциденте). Разговор не клеился. Я уже проклинал себя, пил красное вино, а И.Г. челноком мотался между итальянцем, которого почему-то принимал на кухне, и мной. Напряжение сгущалось. Девчонка-натурщица тем временем ушла. Проводив ее, И.Г. подбежал ко мне:
– Старичок, а как ты относишься к еврейскому вопросу?
А я как раз тогда придумал одно словечко, чтобы выходить из трудных положений.
– Как? Адекватно, конечно.
– Я так и думал, старичок. Стало быть, ты антисемит? Чего ж ты пришел сюда с этой жидовочкой?
Тут его молодцов будто подменили. Заговорили, заржали. Все маски сброшены.
Опять стало страшно. Я был буквально в маленьком фашистском логове. Ушел трезвее, чем пришел.
Нахожу июльскую запись 1966 года в дневнике о Глазунове:
«Дрянь человечишка, слабый и жестокий. Был там режиссер Де Сантис. Значит - дурень, раз купился на такого. Все пропитано дешевой фальшью».
А вот еще к портрету Глазунова. Рассказ Эрнста Неизвестного. Когда по приказу чиновников начали сбивать рельеф Эрнста на Донском кладбище (после его столкновения с Хрущевым на выставке художников в Манеже), первый сообщил ему об этом Глазунов: «Слушай, старичок, тебе повезло. Собирай пресс-конференцию для иностранных журналистов. На весь мир прогремишь». Типично глазуновский ход. Ход Эрнста был другим: поехал на Донской, в крематорий. Работяги только приступили к работе, срубили верхний лучик солнца. Эрнст выставил им ящик водки и помчался в министерство спасать работу. Отстоял.
Вообще, первоисточник карьеры Ильи Глазунова – откровенно льстивые портреты всех комсомольских и коммунистических вождей и их жен. Однажды на вечере в Доме художника в честь прекрасной художницы Александры Николаевны Корсаковой во время моего выступления (я говорил, конечно, о ее «достоевских» рисунках) получил записку: «А что вы думаете об иллюстрациях к Достоевскому И. Глазунова?» Закатил паузу.
– Думаю, этими своими иллюстрациями он совершил своего рода подвиг, – говорил совершенно серьезно. – Ему удалось то, чего до сих пор никому не удавалось. – Зал был на 99 процентов свой, если не на все 100, потому возникло тихое недоумение, ошеломление даже. – А вот рассудите! Достоевского боялись и уже больше ста лет боятся обыватели. Точнее сказать, боялась и до сих пор боится ЧЕРНЬ – в пушкинско-блоковском смысле слова. Достоевский этой черни был не по зубам. Она его даже ненавидела. Но вот пришел Глазунов и сделал Достоевского ей доступным. Сделал его своим для черни. В сущности, его иллюстрации написаны губной помадой и тушью для ресниц...
Зал взорвался аплодисментами.
Встреча с Юрием Гагариным
В апреле 1961 года в Прагу приехал Юрий Гагарин. Это было его первое заграничное турне – конечно, в дружественную Чехословакию. Естественно, его принимал президент страны, обеды, митинги. А вечером кто-то, уж не помню кто, затащил его в нашу редакцию. И когда официальщина кончилась, собрались в моем кабинете. Конечно, выпили. Ребята были только свои. Вот тут-то я ему и сказал:
– Тебя тренировали на центрифуге. Перегрузки там всякие. Все выдержал. А вот перегрузок славы не выдержишь. Навесят на тебя два пуда орденов – зашатаешься.
– Не э...
– Не «не э...», а не выдержишь. На это тебя не тренировали. Сломишься.
Распрощались тепло. Хороший он был парень.
Как я начал вести дневник
Был у меня замечательный дядька Аркадий, умница, инженер, воевал, в послевоенной Германии демонтировал заводы для СССР по сталинскому приказу. Многое понимал, когда надо, помалкивал, выпивал хорошо и вот тут уже не всегда держал язык за зубами. Радовался моей дружбе с его сыновьями и меня как-то выделял. В 1955 году на мой день рождения подарил толстую, в кожаном переплете тетрадь с напутствием: «Это тебе, Юра. Веди дневник. Что путное в голову придет, записывай».
Действительно, с того дня, нерегулярно, конечно, записывал я в эту тетрадь свои и чужие, в основном вычитанные, умные мысли. Так и сложилась моя тетрадочка до 1961 года. Оставил ее в Москве. А в Праге пристрастился к небольшим тетрадкам карманного формата, куда конспиративно начал записывать приходившую, в основном по ночам, всякую антимарксистскую «ересь». И поскольку страх перед всевидящим оком КГБ был у нашего поколения генетическим, придумал форму диалога: высказана (кем-то) мысль – оспорена – аргументированно подвергнута сомнению и т.д. Вот и веду эти свои «дневники» всю жизнь, ныне просто записывая пришедшие мысли. Порой записываю так небрежно, что сам с трудом понимаю. Но тогда, в те пражские времена, они оказались для меня бесценными. Особенно в сентябре – октябре 1964 года, когда оказался я в самом логове высшей советской партийной номенклатуры, отдыхавшей «среди своих» в шикарном санатории-заповеднике Закопане (Польша), с охотой, банями, нескончаемыми банкетами и прочими удовольствиями.
Попал туда опять дуриком. Обычно в отпуск ездили в СССР, на наши славные курорты – Гагра, Крым… А тут вдруг предлагают гостевую путевку в Закопане (из-за этой путевки, оказывается, в редакции передрались; и тогда кто-то сказал: а вот Карякин ни разу не ездил по «гостевой»). На вокзале в Варшаве встречали словно космонавта. Какие-то старые польские большевики. Роскошный отель. Четыре комнаты. Торжественный обед с ихним Б.Н Пономаревым, то бишь зав. международным отделом, имени не помню сейчас, фамилия – Мруз. Подошел к нам развязный человечек. Дал конверт «на трамвайные билеты» (10 тысяч злотых). Вечером бродили с Мрузом по Варшаве. Раньше он работал секретарем парткома на каком-то большом заводе. Вызвали в ЦК. «Ничего не говорят. Только водят по кабакам. Крепко пьют. Я боялся ударить в грязь лицом. Не отставал. Но старался не пьянеть. Наконец говорят: «Экзамен выдержал. Будешь зав. отделом». Конечно, прощупывали и политически...» И вот мы бродим с Мрузом по кабакам. Платит, разумеется, он (мне запретил). Берет самое дорогое... Под конец: «Что же делать?» – «С чем?» – «Да вот, на тебя в день положено тратить десять тысяч злотых, а мы истратили только три». – «Так отдай тому, кто победнее». – «Нельзя».
Закопане. Два маленьких полузамка. Опять роскошные номера. В каждом полный бар. Холодильники набиты всякой снедью. «Контингент» – человек 20–25. Председатель Комиссии партийного контроля Павел Васильевич Кованов. Начальник кадров Международного отдела ЦК Цуканов. Секретарь Краснодарского обкома Иванов. Секретарь Владивостокского обкома. Главный редактор газеты «Neues Deutschland», министр КГБ Болгарии, главный редактор какой-то прокоммунистической арабской газеты (ему тот маленький плюгавенький человечек каждый вечер приводил девок – «национальная специфика»). Когда кто-то уезжал, устраивали проводы и дружно пели «Пусть всегда будет солнце» и «Подмосковные вечера».
Все началось с Иванова. Как-то сидели с ним. Выпивали. Жалуется:
– Трудная у меня работа
– Ну какая трудность! Про вашу землю (Краснодарский край) Чехов говорил: воткни оглоблю, тарантас вырастет.
– Да политики больно много.
– Какой?
– Каждый день должен отчитываться о Матиасе Ракоши.
– ?
– Он же у нас живет, Ну, скрытно, понятно. Следят за ним. А отчеты в ЦК каждый день... Да вот еще недавно прислали этого, вашего, из Чехословакии… Ленарта. Приказали зафиксировать.
– Это как?
– Ну, зафиксировали. Показали ему балет. Он по вкусу своему выбрал балеринку... Ну и зафиксировали.
У меня отвисла челюсть.
– Думаешь, на фото? На кино. Теперь он у нас вот где, – он хлопнул себя по карману. После свержения Дубчека Ленарт стал премьер-министром. Эту историю я потом рассказал послу ЧССР в России Сланскому. А с того момента я решил «фиксировать» их самих. Во время рассказа краснодарского деятеля я понял – пьянеть нельзя. Надо запоминать.
Вспоминается еще один почти курьезный эпизод из моей пражской работы, который я несколько лет спустя описал в статье.
«Если вы это опубликуете, я вас оклевещу…»
В 1963-м я вдруг получил «добро» от главного редактора А.М. Румянцева заняться темой «Завещание Ленина», разобраться с историей написания этого «Завещания», историей его сокрытия от партии и народа, историей расправы над теми, кто не позабыл его. Я к тому времени уже прочитал это «Завещание» и был, конечно, потрясен.
Чем? Тем фактом, что, когда оно (кажется, в 1927 году) было опубликовано за границей, партия объявила его «буржуазной фальшивкой», даже Троцкий!
А вот вам формулировка обоснования расправы над теми, кто не позабыл его: «За чтение и распространение троцкистской фальшивки под именованием “Завещание Ленина”».
Итак, Троцкий: «буржуазная фальшивка», Сталин: «троцкистская фальшивка».
Не мог не вспомнить, что секретный доклад Н. Хрущева о Сталине на ХХ съезде (февраль 1956-го), когда он, доклад, появился в зарубежной прессе, был тоже объявлен «буржуазной фальшивкой». Но я же его сам читал, мне же его читали! Как же быть с главной заповедью, начертанной на всех партбилетах: «Партия есть ум, честь и совесть нашей эпохи» (В. Ленин)? Как-то это не сходилось. Что-то во мне дрогнуло. Собственные свои документы партия называет «фальшивкой».
Вооруженный длиннейшим списком имен людей, которые в последние дни Ленина окружали его, – от дворников и медсестер до его секретарей, членов ЦК и Политбюро, посещавших его в то время в Горках, – я отправился в Москву.
Дальше – кусочек мистики.
Прилетел я в Москву к концу дня. Что делать? Поехал в «Вопросы философии», где работали многие мои однокашники. Расслабились (у меня был хороший запас чешской «бехеровки»). И вдруг сзади слышу голос: «А Мария Акимовна мне говорит, что Ленин…» Мгновенно оборачиваюсь: «Простите, какая Мария Акимовна? Володичева?» (ей-то он и диктовал последние страницы, она у меня значилась в списке уже не живущих). – «Да». – «Так она жива?» – «Жива».
Мгновенно мне представилось, что вот она может умереть, а я не успею с ней поговорить. Запал у меня был такой, что мы немедленно с этим человеком поехали к ней, но по пути я сообразил, что нужен магнитофон. Заехали к известному философу Эвальду Ильенкову, который, помимо того что был знатоком Маркса и Вагнера, был еще и умельцем по магнитофонам. Он дал нам свой ящик величиной с полдивана, который никак не влезал в такси.
Маленькая, худенькая, какая-то блаженная старушка приняла нас с удивлением и – радостно. Мария Акимовна Володичева. Я просидел у нее почти сутки. Все записал. Потом отдал магнитофонные записи Егору Яковлеву.
Главное впечатление: она была влюблена в Ленина, как в Христа, а Сталин был для нее чем-то вроде Инквизитора. До сих пор звучит во мне ее голос: «Товарища Ленина было очень трудно расшифровывать, а товарища Сталина – так легко…»
Большую часть своей жизни (с 23 года по 63-й) она вспоминала – почти ежедневно, ежечасно – о том, как провела у Ленина около полутора часов, записывая его слова.
Где-то я вычитал в юности (кажется, у Золя), как человек, оказавшийся в железнодорожном туннеле, прижался к стене, чтобы не быть раздавленным поездом, и вдруг увидел в одном из проходивших вагонов, как совершается убийство. Потом он восстанавливает эти полсекунды-секунду и вдруг видит всю картину…
Вот такое впечатление произвела на меня Мария Акимовна. Она распластовывала время, эти полтора часа, в бескрайнее пространство.
«Я вот уже вспомнила, что стояло на дальнем левом и дальнем правом углах стола… а вот на ближних – еще нет…» (виновато улыбаясь).
Ленин приказал Володичевой отнести записку товарищу Горюнову и Н.К. Крупской. Мария Акимовна – по партийному закону – должна была отдать их Лидии Фотиевой, секретарю Сталина, что и сделала…
«Иду от Владимира Ильича. Поздно уже. И вдруг слышу, что за мной кто-то следует. Остановлюсь, и он стоит. Оборачиваюсь – никого нет. Вдруг поняла: Москва вся в снегах, а у нас, в Кремле, чистили. Камни чисто звонкие, а я в туфельках – так это эхо было!..»
Одна из ниточек, на которых повисла судьба России.
Фотиева приказала ей отнести последние ленинские записи Сталину…
Через день-два пошел к Фотиевой. Она все подтвердила. А прощаясь, вдруг неожиданно спросила: «А где вы достали такой плащ (болонью)?» И без перехода, как припечатала: «Если вы все это опубликуете, я вас оклевещу!» Я не поверил своим ушам. Она твердо повторила: «Если вы все это опубликуете, я вас оклевещу!»
Чуть позже Наум Коржавин и Камил Икрамов познакомили меня с известным писателем Александром Беком, который как раз в это время начал заниматься «Завещанием Ленина». Я рассказал ему все вышеизложенное (в больших подробностях), но последней фразе он не поверил: «Юрочка, это вы гениально присочинили. Этого не могло быть…»
Через год или два – точно не помню – звонок. А. Бек: «Юрочка, прошу прощения. Я только что от Фотиевой. Она сказала мне точно эти слова…»
К тому моменту я уже знал, что посоветовал Ленин Дзержинскому, который жаловался, что его теребит наш посол в Германии Иоффе: что отвечать корреспондентам на вопрос: «Николай II расстрелян, а где семья?!» (В официальном извещении было сказано, что семья жива и укрыта.) Ленин: «Правды не говорите, товарищу Иоффе легче врать будет».
А еще я знал, что Политбюро РКП(б) приняло решение напечатать для Ленина отдельный экземпляр «Известий».
«Брать сверхнаглостью», – учил Ленин Чичерина (тогдашнего наркома иностранных дел).
Соратнички научились и его самого, Ленина, «брать сверхнаглостью».
Вот тогда-то у меня окончательно рухнула вера в партию как в «ум, честь и совесть нашей эпохи».
Тогда же, в пражскую бытность, состоялась у меня еще одна прелюбопытная встреча – с великой партийной женщиной-трибуном Долорес Ибаррури. Послали меня к ней в Москву взять интервью для журнала в связи с готовившейся международной конференцией «Женщины в коммунистическом и рабочем движении».
Роскошная квартира в элитном доме в Гранатном переулке. Этажом выше – министр иностранных дел Громыко. Испанка принимает строго, величественно. Усаживается в кресло и почему-то во все время нашей беседы сохраняет одну и ту же торжественную позу, держась ко мне в профиль (впрочем, довольно красивый). Идет пустопорожний разговор. Меня, по правде говоря, мало интересует, что она скажет о роли женщин в международном коммунистическом движении. А интересует, чего это она так напряженно величественно сохраняет позу? И вдруг понимаю: да она просто копирует самое себя, вылитую в бронзе. Статуэтка стоит чуть выше, на стеллаже, а под ней – живой оригинал. С трудом удержался от смеха. Может, и была она в молодости трибуном, но ко времени нашей встречи совсем забронзовела.
Но были в то время и совсем другие встречи.


Первая встреча с Солженицыным
В декабре 1962 года на постоянную работу в журнал приехал мой друг и сокурсник по философскому факультету Леонид Пажитнов. Веселая встреча на вокзале. Некоторое время ждем на перроне: кто-то должен прийти за генеральской посылкой. Никого нет. Едем домой и весело распиваем генеральский коньяк. Неожиданно Лёня говорит: «Привез интересную публикацию в «Новом мире». Александр Солженицын, человек и писатель никому не известный. Говорят о повести разное. Вот, прочти».
Сел читать «Один день Ивана Денисовича». В момент слетел хмель. Просидел всю ночь. Потрясен. Закончив повесть, сразу вернулся к началу. Оно завораживало…
«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем – молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать”.
Много раз повторял вслух это начало, вслушиваясь в музыку слов. И тогда пришла мне в голову мысль, что писал ее автор, проговаривая вслух. Когда в октябре 1965 впервые приехал к Солженицыну в Рязань в тот сарай (а как иначе его назвать?), где они жили с женой, прежде всего спросил: “Вы это писали вслух?”
Александр Исаевич вдруг очень обрадовался:
– Наташа, поди сюда! Он догадался.
– О чем?
– О том, что я писал вслух…
Лад языка. Лад повести. Это не могло остаться невыговоренным, невыкричанным. Весь “Один день…” – невероятный вопль, крик – от имени и во имя вот этого самого малюсенького “человечка”, по которому ни с того ни с сего проехало колесо истории. А он, как раздавленный муравей, корчится. И до сих пор корчится, не понимая ни причин, ни следствий, по которым ему должно вот так до конца дней своих корчиться. Взять все это, впустить в свой мозг, в свою душу – судьбинку человечка, одного-одинешенького, по которому красное колесо и проехалось, – почти невозможно. Почти невозможно. Но я-то хорошо помню те четыре часа утра, когда я дочитал. И вдруг понял, нет, не понял, а прочувствовал мгновенно всю чудовищную низость своего, нашего существования. Вот вам главное о том, что такое “Один день...”. Наверняка эту искру, этот удар вспомнит – с ознобом радости – каждый, кто тогда все прочитал. Боже мой, кто из нас сохранил это в себе до нынешних времен?
Утром говорю Лёне: «Солженицын – сейчас самое важное. Надо собрать все отклики на его повесть. Это оселок, вокруг которого все определится в ближайшие годы».
Леня неуверенно мычит что-то в ответ, не возражает, но и не хочет заниматься.
Засел за работу сам. В журнале был превосходно отлаженный отдел информации. Его сотрудницы для меня рады были стараться и прочесали немало газетных и журнальных изданий на разных языках. Собралось около 200 рецензий и откликов, в основном ругательных. Обратил внимание на одну глубокую и близкую мне по духу заметку некоего итальянца Витторио Страды (потом он стал моим близким другом).
Сел писать. Благословил меня Румянцев, в то время как ответственный секретарь А.И. Соболев и большинство членов редколлегии были настроены категорически против «очернителя» советского строя и социализма.
Тем временем в редакции плелись интриги вокруг статьи о Солженицыне. Соболев сказал, что не допустит «осквернения» коммунистического журнала. Но в июле уехал на Кубу. Помню, как после отъезда Александра Ивановича пришел ко мне в кабинет наш кадровик (и по совместительству сотрудник КГБ) и буквально бухнулся в ноги:
– Юрий Федорович, милый мой, хороший, помилуй, не губи.
– Да в чем дело?
– Мне Александр Иванович перед отъездом сказал: «Я Карякина знаю, он воспользуется моим отъездом и пробьет свою статью. А если ты это позволишь, то тебе тут больше не быть. А к тому же тебе квартира нужна, так знай, ты под распределение квартир не попал, а теперь уж точно не попадешь». – И, уже вставая с колен, тоном не просящим, а упреждающим произнес: – Ну что ты рыпаешься? Ведь все равно наша возьмет, как ты этого не понимаешь?
– Понимать-то понимаю, но, только если мы сейчас хоть чуть продвинемся, потом легче будет…
Уговоры кадровика на меня не подействовали. Я действительно, воспользовавшись отъездом ответственного секретаря журнала и заручившись поддержкой самых умных, а потому «ревизионистски» настроенных членов редакции, «протолкнул» статью (предварительно сделав более 20 вариантов). Статья вышла в сентябрьском номере за 1964 год (журнал появился еще в августе, поскольку всегда выходил с опережением) и получила огромный резонанс в Москве.
Там уже вовсю сгущались коммунистическо-реваншистские тучи. Готовился заговор против Хрущева, спокойно отбывшего отдыхать на юг. Солженицына обложили флажками. Было ясно, что расправа наступит скоро, только лишь уберут главного «кукурузника». И вдруг в коммунистическом журнале публикуется острый идеологический материал в защиту Солженицына и в развитие тех инициатив, что прозвучали на ХХ съезде, тех самых, которые новое партийное руководство стремилось побыстрее заглушить и забыть... Сегодня эта столь знаменитая тогда статья местами кажется мне неуклюже бронированной в марксистские клише. Но тогда кому-то она показалась «якорем спасения». Вскоре и совсем неожиданно для меня раздался ночной звонок из Москвы. Звонил Твардовский.
Уже предчувствуя конец хрущевской «оттепели», наступление партийно-номенклатурной реставрации и гибель своего детища – журнала «Новый мир», Александр Трифонович, как только прочитал статью о Солженицыне в «ПМС», решил перепечатать ее в сентябрьском номере своего журнала. Об этом и был ночной разговор. Статья вышла в «Новом мире» в начале октября (журнал Твардовского обычно запаздывал), а 16 числа того же месяца в СССР произошел государственный переворот – сняли Хрущева. Снятию «кукурузника» радовались многие. В нашей редакции даже такие «прогрессисты», как Женя Амбарцумов. Но я сразу сказал своим друзьям: это начало конца. Теперь пойдет реставрация сталинизма.
Октябрьский переворот означал начало конца и «румянцевской деревни» в Праге. Алексей Матвеевич Румянцев со всей своей молодой «ревизионистской» командой был уже не нужен, хотя просто выкинуть его не решались. Предложили почетное место главного редактора «Правды» (по номенклатурной разрядке им должен был быть член ЦК КПСС), а команду его решили разбросать. Тех, кто был посговорчивее и «гибче» в понимании новой линии партии, пригласили в аппарат Международного отдела ЦК. Тем, кто все еще оппозиционировал, – свободное трудоустройство. Оставили лишь сговорчивых «технарей» – переводчиков и редакторов, готовых работать по принципу «чего изволите?». Нельзя же было закрывать журнал и оставлять международное коммунистическое движение без его мыслящего органа.
Мне еще раньше, при Хрущеве, предложили идти работать в аппарат ЦК, в комиссию по расследованию преступлений Сталина и реабилитации политзаключенных. Это было бы для меня главным делом жизни. Я радостно согласился и ждал, объясняя друзьям: «Согласен на все, буду горшки за ними выносить, лишь бы пустили в партийные архивы». Но горшки выносить не пришлось. Решение о создании комиссии заболтали, замотали, спустили на тормозах, комиссию не создали. Новому голодному брежневскому руководству все эти «разоблачения» были как кость в горле, хотелось поскорее полноты власти и «стабилизации режима» на старых основах. А молодые марксисты-идеалисты, выступавшие за «социализм с человеческим лицом», только мешались под ногами.
В редакцию журнала «ПМС» направили матерого и хитрого «спеца», академика Францева. Умен, энциклопедически образован, знает иностранные языки, немного «барин», написал интересные книги по новой истории Запада («Талейран» и др.). Для разбуженных хрущевскими эскападами западных коммунистов лучше не подберешь. Ну а поскольку академик всю жизнь дрожал от страха перед большевиками и их властью, то готов был служить им верой и правдой.
Сразу понял при первой встрече с новым шефом – от меня решили избавиться. Предлог использовали самый грязный – донос руководителя испанской группы переводчиков. Его комнатка была рядом с моим огромным кабинетом, где собиралась пражская вольница – друзья, представители тех партий, что уже давно разочаровались в коммунизме, и позволяла себе самые смелые речи. К тому же много пили и шумели. Вот тебе и «поведение, несовместимое…». Впрочем, поставив на мне клеймо, член ЦК Францев отпустил меня на все четыре стороны. Главное было закрыть дорогу к цекистской карьере, но я туда, в аппарат ЦК, и не стремился, уже разобравшись в том, что выше назвал кадровой «воронкой».
Провожала меня почти вся редакция. Накануне отъезда устроили в мою честь футбольный матч. Две команды были сформированы по идеологическому принципу – те, кто за социализм с человеческим лицом, проще говоря, хрущевские недобитки, составили одну команду, а сторонники нового, брежневского партийного руководства – другую. «Наши» выиграли, потому что, во-первых, были помоложе, а во-вторых, в футбол играть умели в отличие от новых партийцев, не умеющих ничего, даже играть в футбол. Меня наградили специальной Грамотой «за активную игру в футбол в сборной команде редакции журнала “Проблемы мира и социализма”». Конечно, Грамоту сочинили и отпечатали (13 июля 1965 года) в нашей типографии друзья, которые потом дружно на этой Грамоте расписались.
А потом полредакции пришло на перрон вокзала. Пели, пили, прощались навсегда. Так в июле 1965 года кончилась для меня пражская жизнь, которую я определил бы теперь как «задержавшаяся юность». Это было прекрасное время хохм, доброжелательного хулиганства, вдохновения и работы.
Я убежал из Праги, как спрыгнул с эскалатора, который тащил «вверх». Мне уже осточертело днем просовывать, впихивать, протаскивать в журнал ревизионистскую контрабанду, а по ночам работать на себя. В дневную работу все больше попадало недозволенной «ереси», зато в мои ночные писания неизбежно попадало больше дерьма, чем хотелось бы. Позже, когда познакомился и сблизился с Эрнстом Неизвестным и Александром Исаевичем Солженицыным, резко заметил: разговариваешь с ними – говоришь и пишешь по-человечески, а только начнешь «прогибаться» под марксизм – все сразу мертвеет, скучнеет.
Моя первая статья о Солженицыне, которая стала для меня последней в журнале, сегодня мне представляется довольно примитивной. Но следует помнить, что на родине для многих людей, особенно среди интеллигенции, с большим сожалением расстававшейся с хрущевской «оттепелью», ее публикация в официальном коммунистическом журнале казалась еще каким-то отблеском надежды на то, что полной реставрации сталинизма не будет.
Из дневника
17 сентября 1964 Если меня хватит кондрашка или случится еще какая ни будь хреновина: более гениально честного человека на Руси, чем АИС – я за последние 50 лет не знаю.
СПЕЦКОР «ПРАВДЫ»
Летом 1965 года я вернулся из Праги в Москву. Из журнала «ПМС», если называть вещи своими именами, – выгнали. В аппарат Международного отдела ЦК – не пригласили, да и не пошел бы уже ни за какие коврижки. Друзья мои, уже работавшие там, – Черняев, Пыжков, Жилин – хоть и не растеряли еще полностью своего первоначального «ревизионистского» энтузиазма, начинали, однако, понимать, что вписывание «прогрессивных деепричастий» в очередной доклад генсека или в какой-либо еще докладец ничего решительно не меняет в том новом курсе, что взяла партия под руководством нового Ильича – Леонида Брежнева, – курсе на возрождение, пусть в несколько менее жестком виде, тоталитарного коммунистического режима. А это предполагало все усиливавшуюся борьбу с «инакомыслием», чистку всех печатных органов, в том числе и толстых литературных журналов от ереси хрущевской поры, закручивание гаек в социальной и особенно политической жизни.
Едва я огляделся в Москве, пригласил меня к себе А.М. Румянцев и предложил должность специального корреспондента «Правды». Должность, надо сказать, по тем временам была высокой, по меркам партийной номенклатуры приравнивалась едва ли не к секретарю райкома. В «Правде» работало всего 5 или 6 спецкоров, среди них Елена Кононенко, Юрий Черниченко, Тимур Гайдар, Лев Делюсин. Все они были на особом положении в газете. Приходили на работу, когда считали нужным. Писали о том, что считали нужным. Конечно, свобода эта была в рамках позолоченной клетки. Но даже такая «свобода» остальным работникам газеты, вынужденным денно и нощно праведно трудиться на идеологическом фронте, казалась небывалой роскошью. И спецкоров все тайно ненавидели.
С предложением шефа я, конечно, согласился, оговорив, что писать буду, что захочу.
– Да уж знаю тебя, товарищ непутевый, – обнял меня Румянцев и принял в штат.
Я сразу включился в работу. Алексей Матвеевич привлек меня к написанию статьи в защиту интеллигенции. Помню, участвовал также Николай Иноземцев, человек либеральных взглядов, широко образованный, но державшийся, особенно с незнакомыми людьми, крайне сдержанно. Статья вышла в начале октября за подписью Румянцева и сыграла важную роль в предотвращении намечавшихся по инициативе «Железного Шурика» (Шелепина) репрессий против интеллигенции. Для меня же она имела весьма печальные последствия, о чем расскажу чуть позже.
В то время в Москве бурлили вольнодумцы, но их аудитории ограничивались в основном московскими кухнями. Я сразу попал в водоворот таких встреч. После относительно спокойной и одновременно вольной пражской жизни Москва меня ошеломила.
Александр Трифонович Твардовский, успевший напечатать (перепечатать) мою статью о Солженицыне до октябрьского переворота 1964 года, пригласил к себе. Разговор был невеселый. Твардовский понимал, что журналу его остается жить недолго. Как-то наивно сказал мне: «Будь у меня на руках вся собранная вами подборка рецензий на повесть «Один день Ивана Денисовича» (а мы набрали по мировой печати около 500 откликов. – Ю.К.) еще тогда, летом 1964 года, пошел бы с ними в ЦК. Еще поборолся бы».
Он ведь был одним из тех, кто до последнего верил, что Солженицын получит Ленинскую премию, а это, в свою очередь, позволило бы создать совсем иные исходные позиции для боя и за него, и за журнал.
Для меня журнал «Новый мир» стал любимейшим пристанищем в непонятной еще московской жизни. Знакомство с Володей Лакшиным, с Асей Берзер было счастьем. Приглашение к обсуждению некоторых работ, а порой и к редакторскому застолью казалось мне совершенно незаслуженной наградой. В «Новом мире» познакомился я с Эммочкой Коржавиным, ставшим мне другом на всю жизнь, с Камилом Икрамовым, человеком по доброте и открытости сердца ни с кем не сравнимым.
Но было немало и других встреч и застолий, где я, называя вещи своими именами, «лопух лопухом», сделался легкой мишенью для гэбэшных провокаций. Одна из них, в доме Петра Якира, где собирались очень разные люди, в том числе и нечистоплотные, и просто провокаторы, чуть не кончилась для меня потерей глаза и рабочего места.
Пришел я к Петру после напряженного дня работы над той самой статьей Румянцева, положил в портфель верстку, намереваясь по своей пражской привычке еще ночью поработать. Народу было у Петра, как всегда, много. Народ сборный и в основном уже пьяный. Я тоже, конечно, выпил, и тут у меня на глазах какой-то парень стал грубо приставать к молодой девочке, из подружек Якира. Я как дурачок заступился. «Обидчик», почему-то очень довольный, предложил «выйти – поговорить». Я не сразу, но пошел. В голове было – надо еще «почистить» статью. И в подворотне большого сталинского дома около метро «Автозаводская», где Петя Якир, как сын репрессированного и сам пострадавший от репрессий, получил квартиру, на меня навалились двое парней. Хоть я был тогда малый спортивный, но против их приемов не нашел своих. В общем, хорошо меня отдубасили, подбили глаз (благо, в Глазной больнице у Белорусского по «скорой», ночью глаз мне спасли) и, главное, забрали портфель. А ровно в 9 утра у Алексея Матвеевича Румянцева раздался звонок от председателя КГБ Семичастного, который язвительно заметил: «Хороши же ваши сотрудники. Напиваются и теряют верстки статей». – «О чем речь?» – «Да о вашей статье, Алексей Матвеевич. Верстку потерял ваш помощник Юрий Карякин».
Это был для меня первый урок московской жизни.
Детдома
Не сразу, но нашел в газете свою тему. Помог Достоевский. Последние два года жизни он ездил по сиротским домам. Я же за пятилетнюю пражскую жизнь оторвался от России. Чувствовал – ничего не знаю. Отсюда и родилась первая тема – «Детдома»: написать о том, в каком состоянии находились детские дома в стране. Решил поехать в провинцию, сначала в Саратов, потом в Мордовию, в Саранск.
Первая поездка – в Саратов. Встречает первый секретарь. Сразу везет на заседание обкома. Конечно, мне не верит, как и никто не верил, что я приехал собрать материал о детских домах. Дескать, «детские дома» для прикрытия, на самом деле – разведка сверху о состоянии дел в области. Поэтому все со мной заигрывали.
Итак, сразу попал на заседание обкома. Обсуждают самый важный вопрос – что делать с рабочими фабрично-заводского района города Энгельса (левый берег Саратова)? Первое потрясение для меня: зарплату платить нечем, боятся взрыва недовольства. Что делать? «Первый» (секретарь) предлагает:
– Кинем туда запас водки. Потом заплатим.
Все поддерживают. Выход найден.
С продуктами в городе плохо. В райкомовской столовой подали котлеты из китового мяса. Чуть не подавился.
Не утруждая себя больше тем, чтобы убедить секретаря обкома в своем профессиональном интересе, уезжаю из Саратова в Вольск, как и планировал. Готовясь к поездке, собрал кое-какую статистику: из приблизительно 1800 домов при советской власти построено не больше десятка. Лучший – в Вольске. Решил: поеду сначала в лучший, а потом в худший.
В Вольске меня встретил невероятной энергии директор макаренковского типа. Ребята сами построили свой дом, превосходный. Высок процент выпускников, поступающих в вузы.
Встреча с Бахтиным
Вторая поездка – в Краснослободск, в Мордовии. Лечу в Саранск. Встречает меня, как положено по партийному регламенту, представитель райкома партии. Молодой человек, кажется, секретарь райкома комсомола, извинился за занятость шефа – партийного секретаря – и тут же похвастался, что тоже кончал университет и теперь пишет диссертацию о Шиллере. Я почти автоматически вспоминаю и говорю ему о том, что молодой Достоевский любил Шиллера. В ответ слышу:
– Вот и мой научный руководитель говорит мне об этом.
– А кто ваш научный руководитель?
– Бахтин.
– Это какой же Бахтин, уж не Михаил Михайлович?
– Он.
Это сообщение едва не повергло меня в ступор. Я уже знал работы Бахтина о Достоевском и Рабле. Знал о том, что он был выслан из столицы много лет назад. Но предположить, что он уцелел в сталинской мясорубке, что он жив, да не только жив, а вот, находится совсем рядом, было каким-то чудом.
– Немедленно едем к нему!
– А как же шеф? Он ждет вас в райкоме партии, – заблеял комсомольский аспирант.
– Подождет. Никуда не денусь. Вы хоть представляете сами-то, кто ваш руководитель?!
Так я очутился в доме Михаила Михайловича Бахтина в Саранске.
Вернулся далеко за полночь.
На другой день отправились в намеченный по плану детдом в Краснослободск. По пути нас останавливает ливень. Дальше не проедем, говорит шофер. Предлагает заглянуть в другой детдом, для глухонемых, что совсем рядом.
Заехали туда наобум. Там понятная паника. Я сразу попросился на урок. Дети мычат: «УУУууу-у-у… Улетают журавли…»
Попросил дать письма учеников. Струсили, но под нажимом дали. Случайно нашел главное письмо.
«Письмо от Николая.
Привет из Краснослободска! Здравствуй дорогая моя любимица Катя Мартынова Алексеевна. С горячим большим приветом и любовью шлю я тебе чистосердечный привет и желаю хорошего здоровья для жизни...
Я думаю, что у вас есть глухих детей мальчики эти любовь от тебя.. да что мне не обижайся и поэтому что за месяц я никогда получил ответ, а мне когда получим, но вдруг меня думает почему не хочется письмо ответ меня что сделал, как верил, что у вас есть любовь от Кати но мне не обижайся... Но если стесняет отвечай не или хочется любовь напиши письмо мне верно. Потому что есть в Белоруссии для глухих девушки любви от меня. А мне не хочу любви с Верой Голотовой, потому что это очень плохая человек... Я люблю очень прямо тебя...
Я родился в 1945 году деревня Астрадамовка. Я учусь в 8 классе. Осталось учиться только 3 месяца и тогда до свидания все 8 девочки и 3 мальчики, с которыми живем... У нас есть в интернате по телевизору. У нас опять по телевизору «гусарская баллада». За это очень большое хорошо, что мне понравилось это кино сразу от легкие сердечную любовь от Кати...
Ты любишь другого юношу кого? Но ты нельзя полюбить другую мальчику. Я очень тысяч прошу с тобой любовь от Кати. Ясно! Много писать нечего, скорее увидимся и тогда обо всем поговорим. Белорусы девушки очень много любовь от меня... Мы с другой мальчики разговаривали о Кате, очень плохая, как карликовая девушка, но мне все равно очень сердечную горячую прямо любовь от Кати... Я ВЕЧНО СОН ОТ ТЕБЯ. ЛЮБВИ ТЫ МОЯ НАВЕЧНО...»
Не знаю кому как, но мне кажется, что здесь пробуждается что-то гениальное, неистребимое в человеке. И эта жажда жизни, света и вместе с тем трогательная неумелость себя выразить присутствуют, вероятно, в каждом человеке. Читая и слушая это письмо, опять воочию видишь и осязательно чувствуешь, что присутствуешь при действительном чуде. Казалось бы, обреченное навсегда быть бессмысленным «вещество» на наших глазах превращается – превратилось! – в «вещество» одушевленное, существо одухотворенное, прекрасное.
Возвращаюсь в Саранск. Прежде всего иду к Бахтину. Читаю письмо. Он: «Ради Бога, сохраните, напечатайте. Это гениально. Какой язык: он корчится, обретает форму! А ведь тот, кто пытается выразить свои мысли, лишен и слуха и речи».
Рассказываю ему о своих впечатлениях: эти несчастные дети рождаются глухими и немыми и могут долго не подозревать о том, чего они лишены. И вот из этого «вещества», из этих живых, но еще духовно мертвых обрубков – путем невероятных усилий – воссоздаются люди. Воссоздаются людьми же. Учителями, воспитателями, их самоотверженным и донельзя изнурительным трудом, который далеко еще не так ценится, как того заслуживает.
Поездка моя была настоящим отрезвлением от сытой пражской жизни. И конечно, принесла небывалое счастье – знакомство с Бахтиным. На прощанье он подарил мне свою книгу «Проблемы поэтики Достоевского», с дарственной надписью. Храню ее как главное мое сокровище.
Фото 082
Возвращаюсь в Москву. Румянцева уже сняли. Отправился дорогой мой академик Алексей Матвеевич в Российскую академию. Пост главного редактора «Правды» занял Зимянин. Чинуша, мертвые мозги, извращенно-идеологический взгляд на все: не интрига ли, не подвох ли?
Мою статью «О детдомах» принял в штыки.
– Вы на что намекаете? Что на детдома денег нет, а нам дачи строят?
Вот уж проговорка так проговорка! Видно, остатки совести зашевелились. Но он тут же взял себя в руки. Потребовал начать статью с постановления партии и правительства о… Потребовал усилить материал о положительных тенденциях в…
Разругался я с главным вдрызг. Понял, что работать с ним не смогу. Но статью о детдомах все-таки напечатал. Пришлось пойти на некоторые уступки.
Вторую тему выбрал о школах. Как, когда выявляются способности каждого ученика, как формируется личность человека в школе? Вроде бы и отказать мне в этой теме Зимянин не мог, но и понимал, что даст шанс, чтобы потом уж навсегда расстаться со мной.
А пока (это «пока» растянулось еще на полтора года), пользуясь широкими возможностями спецкора, лечу в Новосибирск, в Академгородок, будущее советской науки. Там и школы особенные, там собрались молодые и маститые ученые, там знаменитый клуб «Интеграл», куда меня пригласили выступить вместе с писателем-хирургом Юлием Крелиным.
Январь 1967. В самолете мы устроили небольшое хулиганское представление. Выпив для храбрости, начали распевать советские песни, прославляющие Отца и Учителя всех народов. «О Сталине мудром…» и прочее. Вроде формально запретить нам этого нельзя. А наблюдать за публикой очень интересно. Пели, пели, пока репертуар не кончился да сон не сморил.
На аэродроме нас, кажется, встретили. Помню, в машине клевал носом, прилетели в 5 утра. Вдруг Юлька расталкивает меня и кричит: «Каряка, смотри, что здесь делается!» Выглядываю в окошко. Через всю улицу протянуты лозунги: «Свободу Гинзбургу и Галанскову!» Не удивляюсь и говорю спокойно: «Все верно. Они же живут в свободном ученом мире. Им можно говорить всю правду».
Но уже через пару часов мы становимся невольными доносчиками. Дело в том, что меня спозаранку принимает секретарь райкома городка Володя Можжин, мой товарищ по философскому факультету. Разумеется, на столе бутылочка коньяка, радостная встреча. И тут я ему и говорю:
– Ну, Володька, у вас и жизнь! Свобода, так свобода. Прекрасные лозунги встречают приехавших в городок: «Свобода Галанскову!».
Тут секретарь вскакивает как ужаленный.
– Какая еще свобода Галанскову? Где вы видели?
– На главном проспекте, поперек дороги.
А ему уже докладывают. У чекистов паника. Лозунги снимают. Коньячок остается в нашем распоряжении. Партийный лидер с чекистами бросаются на амбразуру.
Была у нас замечательная встреча с академиком Александровым. Повздорили с атомщиком Будкером, которому Крелин все пытался доказать, что не надо было делать атомной бомбы. Познакомились с социологом Владимиром Шубкиным (тоже стали друзьями). У меня складывалось впечатление, что мы попали в маленькую сибирскую Прагу. В общем, распоясались. А уж на своей лекции в «Интеграле» о Достоевском и Солженицыне я наговорил такое, что по приезде в Москву получил по полной программе и Зимянин с удовольствием сообщил мне, что с работы меня уволили.
Я с ним спокойно согласился, предложив ему еще один аргумент в пользу моего увольнения: я не спринтер, а стайер, бегать на короткие дистанции не могу и потому для газетной работы не гожусь. Распрощались. Статью о раннем выявлении способностей учеников в школе я все-таки написал, но опубликована она не была.
АРЬЕРГАРДНЫЕ БОИ
ПРОТИВ СТАЛИНЩИНЫ
Возможно ли воссоздать картину гигантского преступления?
В начале 1966 года мне позвонил главный редактор журнала «Иностранная литература» Борис Сергеевич Рюриков и предложил прочитать только что опубликованный в его журнале роман Эльзы Триоле «Великое никогда» и как-то откликнуться на него. Предложение было для меня странным. Я тогда вообще не писал литературных рецензий, как, впрочем, не делал этого и позже. Мои связи с литературными кругами были только через Достоевского да журнал «Новый мир», где я после публикации в нем в октябре 1964 года моей статьи о Солженицыне стал немножко «своим человеком»
Но отказать Борису Сергеевичу я не мог. Мы познакомились с ним в Праге. Рюриков заведовал в «Проблемах» отделом культуры и к моему приезду был уже старожилом. Вечерами, за коньячком, мы говорили о многом, впадая, естественно в «ревизионистскую» ересь. Он был человеком большой культуры, в меру осторожным, прошедшим немалую школу службы в подцензурных изданиях. В Праге в те годы уже вовсю дули ветры перемен. Хрущевская «оттепель» привела к разливу вольнодумных рек. Мы полностью доверяли друг другу и расстались друзьями.
Прочитав роман, который мне не понравился, я прямо сказал, что могу написать только то, что думаю. Рюриков согласился и заверил, что постарается опубликовать все, что напишу. При этом он (видимо, намеренно) не посвятил меня в сложные семейно-родственные отношения Эльзы Триоле с Лилей Брик, их связи с руководством Французской компартии и с литературными надзирателями из КГБ. В результате после публикации моей заметки в журнале «Иностранная литература» из ЦК компартии Франции пришла «телега» в наш ЦК, но Борис Сергеевич все взял на себя.
Для меня же роман Э. Триоле послужил поводом высказаться, пусть и эзоповским языком, против наступавшего в стране реванша сталинистов, против тех, кто, решив «перепрыгнуть через поколение ХХ съезда» (это выражение было в ходу среди высшего партийного руководства), хотел побыстрее забыть о тех преступлениях КПСС, которые только приоткрылись нам в знаменитом докладе Хрущева, объявленного для Запада «фальшивкой». Поскольку упоминать Сталина в негативном плане уже было нельзя, я ввел образ «карлика», завораживающего рефлексирующих интеллигентов своей непомерно огромной тенью: служить карлику – недостойно, а великану… можно, тем более что всегда можно спрятаться за относительностью всего и вся. Ведь пафос коммунистки Триоле состоял в том, что никакое историческое преступление на самом деле никогда не может быть доказано и тем более наказано.
Ниже я приведу несколько эзоповских отрывков из статьи, названной мной «О невинности и порочности дилетанства»:
Всегда существовавшие в сознании таких людей искорки агностицизма превратились вдруг в пожар, в котором суждено было сгореть и тому знанию, которым эти люди обладали, и, конечно, в этом пожаре должна была сгореть прежде всего история человечества, вернее, убеждение в том, что она познаваема… Эти настроения превосходно выражает герой нового романа Э. Триоле «Великое никогда» (кстати, герой этот, Режис Лаланд, – и писатель, и учитель истории): «Я не верю в возможность установить историческую правду... Показания непосредственных свидетелей, даже самых честных, никогда не совпадают; в сущности, все они лжесвидетели... раскрыть истину мировой истории – это все равно, что воссоздать картину гигантского преступления с великим множеством свидетелей, лжесвидетелей, фантазеров, доказательств, отпечатков...»
…Этика исторической личности и этика историка – сегодня один из самых злободневных вопросов. Без уверенности в том, что преступники будут разоблачены, а жертвы и герои – реабилитированы, без полной отдачи себя этому делу, конечно же, труднейшему, а порой и небезопасному, без умения его вести и без постоянного совершенствования такого умения, без мужества и риска, без одной страсти – до всего докопаться, все разузнать и все понять – объективный историк немыслим. Без этого он – соучастник и продолжатель длящегося преступления, сознательно скрывающий или извращающий факты. Но можно быть уверенным и в том, что сам он тоже станет, рано или поздно – и скорее раньше, чем позже, – предметом исследования, из субъекта превратится в объект.
…Но действительный выбор – не между молчанием и ложью. Остается еще один, старый, пусть «наивный», но единственно надежный путь – исследовать истину, бороться за нее, вытравлять ложь.
…После событий последних десятилетий нельзя уже оставаться «наивным» и «добросовестно заблуждающимся» человеком в решении коренных вопросов. Такая «наивность» и такая «добросовестность» оказываются по странной случайности весьма выгодным делом. Наивно верить в такую «наивность». Но Режис Лаланд считает, что с фальсификацией бороться бесполезно (но можно принять в ней участие – хотя бы шутки ради), что не будет никакого страшного суда ни над какими преступлениями: «самые добросовестные историки не способны разобраться, кто виновен в преступлении, кто не виновен, кто жертва, кто герой и кто мученик...» Неужели это относится и к истории, например, фашизма? К истории борьбы с ним? Неужели фашизм непознаваем? Неужели антифашизм уже не истина? Или миллионы убитых в Освенциме тоже были «лжесвидетелями»? «Нельзя разобраться...» И это в то самое время, когда концлагеря стали важнейшим «историческим первоисточником». Когда многим историческим персонажам действительно место только на скамье подсудимых. Не об этом ли мечтали прежние преступники? И не вдохновляет ли это преступников нашего времени?
…Впрочем, в одном случае скептицизм Лаланда, кажется, имеет основания. В его записях читаем: «Мадлена говорит, что русские, должно быть, умеют лучше умирать, чем мы. Они глубже вжились в тайну. Они просто возвращаются в нее. Они словно дети, которые падают с меньшей высоты и расшибаются не так больно, как взрослые. А мы – мы не любим умирать... Мы – мы боимся».
Борьба за публикацию Солженицына в России
16 сентября 1966 года в Малом зале ЦДЛ на заседании бюро секции прозы с активом проходило обсуждение рукописи романа А. Солженицына «Раковый корпус».
Вот мое выступление:
В своем «Завещании» Ленин высказал страстную жажду надежды на людей со следующими качествами: нам нужны люди, которые, во-первых, ни слова не скажут против своей совести; во-вторых, не поверят никому на слово, в-третьих, ни в какой трудности признаться не побоятся, в-четвертых, не побоятся никакой борьбы за поставленную перед собой цель.
У нас много пишут о «Завещании» Ленина, но эту тоску и надежду, эту жажду по таким людям забывают. Мне кажется, что А. Солженицын как раз принадлежит к таким людям, которые отвечают по всем статьям.
Еще я вспомнил, что в «Записных тетрадях» Достоевского есть такое замечание: что было бы, если бы Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными? Скажут: «Если уж эти, то…»
Я не сторонник всякого рода фраз. Но одну фразу, которую я слышал, хотелось бы повторить: Солженицын не солжет.
Эту жажду абсолютно бескомпромиссной правды – на вершинах культуры и на вершинах политики – мне хотелось бы подчеркнуть, учитывая мою специфику: я не литературовед и не критик. Обсуждаемая нами повесть Солженицына отвечает этому критерию.
Меня поразило, что Маркс, уже автор «Капитала», уже основатель Интернационала, вдруг задумал (но не осуществил, к сожалению) написать драму о братьях Гракхах. Есть такие разрезы действительности, такие аспекты ее, которые просто непознаваемы без искусства. Другого способа нет познать эти человеческие отношения, их нельзя понять, не прибегая к искусству, не прибегая к «Смерти Ивана Ильича» или чему-то подобному.
Мне совершенно ясно, думаю, и всем очевидно, что повесть «Раковый корпус» должна увидеть свет. Но мне хотелось бы высказать несколько чисто политических аргументов, потому что, в конце концов, именно в этой плоскости будет решаться вопрос ее опубликования.
Сначала одна маленькая справка. Мне пришлось несколько лет назад собирать едва ли не все зарубежные отзывы на повесть «Один день Ивана Денисовича», их были многие сотни, и я поразился, что единодушное осуждение эта повесть получила на страницах троцкистской, китайской, албанской, корейской печати.
Я думаю, что те люди, которые и сейчас иной раз ее осуждают по политическим соображениям (я с ними не расхожусь в вопросе – нужно применять политические критерии или не нужно), забывают, что Ленин говорил: политика – не арифметика, а алгебра. Если учесть всякого рода критерии, то запрещение и осуждение только по политическим мотивам – это, на мой взгляд, не политика, а политиканство. В этом заключается, как в шахматах, многоходовая комбинация.
Я хочу сообщить, что подавляющее большинство положительных отзывов на «Один день Ивана Денисовича» принадлежит самым выдающимся марксистам нашего времени, в том числе руководителям крупнейших компартий. Эта повесть своей правдой и своим жизнеутверждением приобрела нам колоссальное количество союзников, она вернула то, о чем говорил Каверин, вернула подлинность тех идей, которые были до того русановыми испохаблены, что Ефрем говорит: «раз идея – значит, заткнись».
Я думаю, что при расчетах, которые должны быть произведены в отношении того, что мы получим художественно и политически при публикации этой повести, мы должны учесть печальный урок «Одного дня Ивана Денисовича», потому что я убежден, что люди, которые повторяют (я тут согласен, что это не по злому умыслу) такие вещи, должны знать, что с этого начинается «хунвейбиновщина»…
Теперь перейду к повести. Мне представляется, что образ Вадима – пострашнее Русанова. Он принимает эстафету от Русанова, даже не замечая, что он ее принимает. Он же моложе! Как он формулирует свое кредо? Копошащееся какое-то количество, в то время как человек движется пресловутым качеством. Этот образ мне представляется страшным. Им движет червоточинка тщеславия, он может еще очень многое натворить. Образ, к сожалению, очень перспективен. Это большая находка автора.
О Русанове. Тов. Кедрина уверяла нас, что с русановыми покончено, что сейчас уже не найдется никого, кто бы русановых защищал, никто не поддержит. Это тоже… я не могу сказать – злонамеренное заблуждение, но это неправда. Русановщина – это не вчерашняя опасность. Русанов, который даже перед смертью, даже в раковом корпусе ничему не научился, – страшная опасность. Русановы еще мечтают о своем дне, хотя, как показывает сегодняшнее обсуждение, возможно, их мечты и утопичны.
Но в то же время я хотел бы сказать вот о чем, и это, пожалуй, единственное мое внутреннее несогласие с Александром Исаевичем. Здесь мы видим человека, который не может простить Русанову, это заражает, и мы не может простить того, что он совершил. Я рискую заслужить упрек в «толстовстве». Камю при получении Нобелевской премии сказал, что самое большое искусство не прокурорно, оно не осуждает. У самого Солженицына в «Одном дне Ивана Денисовича» говорится: человека можно повернуть и так и этак. Все же Русанов повернутый человек. Мы видим, как он повернут так. И я уверен, – и в этом будет состоять величайшее мастерство художника, что нужно показать не только нам, но и Русанову то человеческое, что было в нем когда-то, что было повернуто так, а не эдак. Мне думается, что все остальное, вся эта святая ненависть, о которой здесь говорили, от этого укрепилась бы, а не ослабла, потому что если из Русанова невозможно сделать человека, то получается первородный грех.
Меня потрясло отношение к Фетюкову в «Одном дне Ивана Денисовича». Вы помните, он там окурки подбирает, и кавторанг ему замечает: сифилис губы обмечет. И вдруг в конце повести в бараке появляется Фетюков, слез своих не скрывает, и Денисович говорит: а разобраться, так жаль его. И эта высшая мера наказания в искусстве не совпадает с высшей мерой людской, потому что высшая мера наказания искусства – это, если угодно, – расстрелять, покарать, а потом в общем помиловать, но не по тому счету, социальному и политическому, а так, чтобы потом либо, как Иуда, вешаться, либо – иди искупай. Мне кажется, что это намечается. Это с огромным тактом намечается на страницах о сне, потому что все человеческое в Русанове, даже страх, оказалось загнанным в подкорку. И только во сне, в бреду что-то начинает проясняться…»
В заключительном слове А.И. Солженицын заметил: «Сегодня очень важную мысль высказал Ю. Карякин, суждение, которое выходит за пределы русановского образа и этой повести. Это суждение о том, как в произведении должны быть уравновешены современность и вечность. Это самые трудные весы, с которыми в каждом произведении приходится работать. Когда слишком дашь на чашу вечности – современность теряет плоть, и теряется связь с читателями. Когда дашь слишком на чашу современности, произведение мельчает, не будет долго жить. И это чувство гармонии хотелось бы воспитать, достичь равновесия».
(Цитируется по книге «Слово пробивает себе дорогу. Сборник статей и документов об А.И. Солженицыне. 1962–1974». Москва. Издательство «Русский путь». 1998, с. 293.)
В 1965–1967 годах, так уж мне посчастливилось, я часто виделся с Александром Исаевичем и даже много говорил с ним. Началось с того, что еще осенью, кажется в октябре 1965 года, поехал к нему в Рязань, был принят и проговорил с ним несколько часов. Тогда, помнится, поразило: очень скромный дом барачного типа, а вошел – звучит рояль, кто-то играет Шопена.
В Москве Солженицын часто останавливался у своей свояченицы Вероники, она жила на Чапаевской улице. Я тогда получил квартиру около метро «Аэропорт». Рядом. Частенько засиживался у Вероники, а то и ночевал, хотя муж ее Юра Штейн иногда ворчал на меня. Но соблазн задержаться в их доме был велик. Рядом, в соседней комнате, Исаич писал главы «Архипелага ГУЛАГ», и мне иногда доставались тексты с машинки. Я обжигался так, что жить дальше не хотелось. Сначала. Но потом, когда я постепенно вникал в эту мощную стихию сопротивления, – оказывалось: жить – долг. По крайней мере – рассказать о том, что с тобой и с другими было. Без этого свидетельства ты не имеешь права уходить на тот свет.
В этой же квартире Александр Исаевич принимал много людей, всегда по вечерам (днем работал) и всегда очень точно в назначенное время, например: Коржавин – в 7.15, Олег Ефремов – в 7.40, Карякин – в 8.10. Опоздать даже на одну минуту было невозможно. Для разговора всегда выходил на улицу. Дом весь был в «прослушках». Конечно, прослушивался и телефон. Мне, кстати, не пришлось стоять в длинной очереди на получение телефона (такова была участь всех москвичей) только потому, что в КГБ хотели знать, что связывает меня, собственного корреспондента «Правды», с этим подозрительным писателем, которого вроде пока и тронуть нельзя, но который позволяет себе что хочет. То письмо к съезду писателей направил, то написал «Письмо вождям», то вся Москва читает его призыв «Жить не по лжи»…
Как-то, придя домой, я обнаружил, что там уже стоит телефон и уже с «прослушкой», которую даже не постеснялись скрыть. Потом я шутя попросил Александра Исаевича посодействовать и другим моим бестелефонным друзьям в установке телефонов в их квартирах.
В отличие от нас, молодых разгильдяев, даже «сидельцев», как Коржавин, Александр Исаевич был очень строг в соблюдении конспирации. Дома он никогда не говорил ни о чем, что не должно было дойти до уха гэбистов, или, напротив, подчеркнуто громко и отчетливо обсуждал, главным образом с Вероникой, ставшей его секретарем, какие-то свои впечатления о посещении партийных чиновников или официальные издательские дела.
С писателями, режиссерами (в частности, с Олегом Ефремовым, у которого в «Современнике» хотел поставить пьесу «Олень и шалашовка») всегда выходил для разговора на прогулку. Обычно приглашенные к нему смиренно дожидались на кухне, иногда позволяя себе выпить для храбрости.
Вспоминается наивный и даже глупый, с позиций сегодняшнего дня, мой разговор с Александром Исаевичем о марксизме-ленинизме. Было это, наверное, в конце 1965 года. Я еще изо всех сил цеплялся за «единственно верное» и пытался спорить с А.И.С., убедить его в том «позитивном», «гуманистическом», что сам пытался найти в марксизме, особенно в раннем. Но… но чувствовал – не по аргументам, не по логике, а просто по его голосу, тону, ладу, – что он прав, а я – нет. Но не мог еще признаться себе в этом. И вспомнил тогда же Рогожина («Идиот» Достоевского), который говорит Мышкину: «почему, князь, я не то что слову твоему верю, а голосу твоему…» Голос, если прислушаться, всегда выдает душу и дух человеческий…
Так вот, как-то в вечерние сумерки вышли мы с Александром Исаевичем от Вероники, шли по Чапаевской. И я, мальчишка, абсолютно в него влюбленный, задал ему два вопроса:
Если «коммунизм – это свободное развитие каждого как условие свободного развития всех», то ведь вы не можете быть против такого коммунизма, не можете не быть за такой коммунизм?
Помню, как корчился перед тем, как задать второй вопрос, чувствуя, что дотрагиваюсь до чего-то такого, до чего нельзя дотрагиваться: А вы верующий?
Он ответил на первый вопрос – да, на второй – нет.
Я был потрясен. Я был счастлив, что наши ответы совпали. Я ведь только начал осознавать, вернее, предчувствовать такие вопросы – и уже внутри себя начал сомневаться в точности и искренности ответов.
Но почему-то я был не уверен в ответах А.И.С. Что-то укололо. Голос его был слишком скороговорчив, «готов» что ли отвечать мне именно так. Но это я теперь, с сегодняшней точки зрения, так отношусь к тому эпизоду. Тогда все было слито, не разъединено, а прямота вопросов и прямота ответов, конечно, мешали разобраться в мотивах «ответчика».
Конечно, тогда Александр Исаевич «солгал» дважды. Не верил он ни в какой коммунизм, и был он верующим, религиозно верующим человеком. Может быть, он уловил тогда во мне совершенную искренность вопросов, которые сам он для себя ставил и разрешил куда раньше, чем я. Может быть, он потому и согласился со мной, «солгав во имя истины», потому что я был для него – он вчерашний, то есть на полпути, на четверть пути к нему сегодняшнему. Может быть, этим согласием, этой «ложью во спасение» он хотел подтолкнуть меня идти дальше. В последнем не уверен.
Почему? Да потому, что он был уже человеком абсолютно беспрецедентным, даже по сравнению с Лютером, Кальвином, Савонаролой, Лениным. Человеком, абсолютно осознанно поднявшимся против системы, разработавшим – куда там Ленину! – до деталей малейших стратегию победы над этой системой, человеком, стало быть, волей своей миссии обреченным относиться к другим только как к средству осуществления этой цели. Как он мог мне, дурачку тогдашнему, ответить иначе!
Повторюсь: он уже поставил перед собой абсолютно беспрецедентную цель: одному убить систему и (полагаю, думал об этом уже в лагере) получить Нобелевскую премию. Невероятная скрутка бесконечного подвига с бесконечным честолюбием. А если перед тобой абсолютно немыслимая, беспрецедентная цель, то – никуда не денешься – все средства хороши, даже по отношению к близким.
Но меня и сегодня сдерживает додумывать, дочувствовать до конца моя совесть. Неловко, нечестно, бессовестно было бы заступаться за себя, не совершив такого подвига. Позже, потом уже, почти сейчас, понял и его грех – жертвовать песчинками во имя скалы, и свой грех – не восстать песчинке.
Но случались и героически-комические эпизоды.
В том же 1965 году, пока Алексей Матвеевич Румянцев оставался на посту главного редактора газеты «Правда», я загорелся идеей опубликовать на страницах «Правды» главы из романа Солженицына «В круге первом». Шанс такой публикации был, конечно, невелик, но и бульдожья моя одержимость помогла мне убедить и шефа и автора. Привез в сейф к Румянцеву один печатный экземпляр романа. Об этом не знал никто, не узнали и в КГБ. Когда гэбисты арестовали все другие экземпляры романа и начали настоящую травлю писателя, сейф Румянцева оказался недоступной крепостью.
Однажды, без звонка, в моей квартире (что у «Аэропорта») появляется Александр Исаевич:
– Мне нужен экземпляр романа «В круге первом». Все остальные арестованы. Учтите, я привел за собой «хвоста».
– Едем в «Правду». Но как быть с «хвостом»?
От «хвоста» пытаемся освободиться в метро. Садимся в разные вагоны и, как только дверь закрывается, выскакиваем и бежим в противоположную сторону. Он нас потеряет. Времени у нас мало, но все прошло удачно. От «хвоста» освободились. К Румянцеву вошел без доклада и стука, все вынул из сейфа, передал Исаевичу. Рукопись была спасена.
История эта имела продолжение. Рассказывать мне об этом неприятно.
Прошло несколько лет. Солженицын жил уже в США. Опубликовал свою вспоминательную прозу «Бодался теленок с дубом» и там коротко рассказал эту историю, посмеявшись над гэбистами: «Мой доброжелатель Карякин должен был в суете утаскивать роман из «Правды». <...> Попросил я его, чтобы вез он роман из «Правды» прямо в «Новый мир». Преувеличивая досмотр и когти ЧК ГБ, не были мы уверены, что довезет, но довез благополучно…».
Я узнал об этом опубликованном эпизоде из передачи Би-би-си зимним вечером 1975 года в Звенигороде, где мы с Ирой катались на лыжах в академическом доме отдыха. Признаться, как только услышал про себя, сердце ёкнуло. А уже на следующий день мои друзья из Международного отдела ЦК вызвали меня прогуляться по Старой площади. Показали мне книгу, предупредив, чтобы я готовился к новому вызову на Лубянку. Обиднее всего было мне, что в гранках уже лежала в «Худлите» моя первая книга о Достоевском – «Самообман Раскольникова». Ну, теперь все похерят, и опять – черный список. Вызов был, трудности с прохождением книги были, но как-то со временем все рассосалось. Хотя осталась досада: ну как он, конспиратор из конспираторов, очутившись там, на свободе, «закладывает» меня, оставшегося здесь, под колпаком? Вот ведь Эмка Коржавин, самый непрактичный человек из всех, кого я только знаю на свете, когда посылал мне свои матерные приветы, и то становился конспиратором почище Ленина, чтобы только меня не подвести.
ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ.
ЛЮБОВЬ-ПОТРЯСЕНИЕ
Одним из самых сильных потрясений для меня в московской жизни 60-х стала встреча с Эрнстом Неизвестным. Сразу, в качестве эпиграфа, замечу: мои соображения об Эрнсте – предельно субъективны. Объясню почему.
Есть три способа познания мира.
Первый – равнодушно-объективистский. Этот способ очень важный, я его не отрицаю. Он позволяет многое добыть.
Второй – ненависть – страстно познавательски плодотворный. Человек ненавидящий познает в человеке ненавидимом удивительные вещи.
Есть третий способ – любовь. Предпочитаю его. С первыми двумя – борюсь.
В Эрнста я влюбился как мальчишка. Относился к нему как к старшему товарищу. Фронтовик, герой-десантник, дважды «похороненный» (родители получили на него две «похоронки»). У моего поколения, по крайней мере у меня, был комплекс неполноценности из-за того, что мы не воевали. Я как-то сказал Эрнсту: «Как я тебе завидую, что ты воевал». Он в ответ рассмеялся: «Господи, как я тебе завидую, что ты не воевал. На войне видишь столько смертей, что перестаешь воспринимать смерть».
Но потом, все больше узнавая его, его творчество, я полюбил, кажется, да не кажется, а теперь ясно – навсегда. Именно любовь к нему, думаю, позволила мне чуточку понять его. Я не смею сказать, что я его понимаю. Но думаю, что любовь к нему позволила мне чуточку его познать.
ФОТО 39 (ПОРТРЕТ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО)
Познакомился с Эрнстом Неизвестным в 65-м году и, покоренный его напором, голосом, скоростью и беспощадностью мысли, а также натуральным, врожденным даром быть всегда «хозяином разговора» (выражение Достоевского из «Бесов»), как-то сразу подружился с ним. Я еще ничегошеньки не понимал в его работах и лишь чуть-чуть начал догадываться о его фантастических замыслах.
Мастерская в Большом Сергиевском переулке на Сретенке. Привели меня к нему Мераб Мамардашвили и Борис Грушин, которые уже с ним дружили. По обеим сторонам от входной двери – две бронзовые скульптуры: «Пророк» и «Орфей», чуть выше человеческого роста. Теперь статуэтка «Орфей», уменьшенная в десять раз, ежегодно вручается телемастерам, лауреатам премии «Тэффи». А тогда скульптуры служили вешалками для гостей. ФОТО 106
Прошло месяца два-три. Мы много разговариваем, выпиваем, и как-то он меня спрашивает: «А что ты ничего не говоришь о моих работах?» Я ему: «Эрик, милый, меня привели в страну санскрита и спрашивают мнение о санскрите, которым я не владею. Дай мне осмотреться. Я ведь ничего не знаю. Чувствую, но в словах выразить не могу. Дай подумать».
Однажды я похвастался своим знакомством с ним (и – неосознанно – своей влюбленностью в него) в мастерской, в кругу одного очень известного тогда скульптора (теперь уже покойного), которого я знал лет пятнадцать. И вдруг в ответ услыхал: «Опять о нем! Да у него же все от Генри Мура. Сплошной плагиат! Жалкое подражание!» Тон был настолько категорический, что я, устыдившись своего невежества, не мог, однако, не поразиться и какой-то озлобленности, ревности (чтобы не сказать – зависти) этого тона. Чувствовалось что-то давно накипевшее! «Какой он гений? Мы же начинали вместе...»
Ни о каком Генри Муре я ничего
еще не знал и, повторяю, устыдившись
своего невежества (и промолчав о нем),
вскоре тайно раздобыл несколько альбомов
с репродукциями его работ и принялся
добросовестно (и тоже ревниво) их
разглядывать. Начался отчаянный и, как
теперь вижу, очень счастливый ликбез.
Я нырнул в неведомый океан, совершенно
не умея плавать. Как я барахтался,
захлебывался, тонул... Оказалось, что
Генри Мура нельзя понять без Родена, а
того – без Микеланджело и т. д. А потом
пошли Гойя, Босх, Брейгель, Пикассо...
Только сейчас я понимаю, чтo меня спасло:
интуиция. Я просто не читал ничего
«социологического», «искусствоведческого»,
почти ничего не читал о
них. Просто смотрел, смотрел
и смотрел. Я решил для себя – сначала
знать только даты жизни и смерти
художников и беспрерывно смотреть-смотреть,
сопоставлять-сопоставлять… Смотреть
и сопоставлять – и последовательно
(хронологически), и в обратном порядке, и вперемежку. Это был какой-то
страшный и все равно счастливый пасьянс,
где «карт» становилось все больше, но,
главное, каждая из них оказывалась не
тем, чем казалась, каждая словно издевалась
надо мной, как «пиковая дама» над
Германном.
порядке, и вперемежку. Это был какой-то
страшный и все равно счастливый пасьянс,
где «карт» становилось все больше, но,
главное, каждая из них оказывалась не
тем, чем казалась, каждая словно издевалась
надо мной, как «пиковая дама» над
Германном.
В Генри Муре меня, конечно, прежде всего потрясла деформация его фигур, особенно – «дыры». Я еще не понял, а только почувствовал, что начинает рушиться все прежнее миропредставление, мироощущение мое и даже мировоззрение. Я-то был, не сознавая того, воспитан лишь на передвижниках, да на Мухиной («Рабочий и колхозница»). И вдруг прежний стройный, понятный мир дрогнул, затрещал, все прежние устои рухнули. Почудилось существование совершенно невиданного, неслыханного, но абсолютно реального нового мира, в котором, оказалось, я уже давно живу, не ведая о том. Мира дисгармоничного, но с невероятной страстью стремящегося воссоздаться в какой-то новой гармонии. (Конечно, без предварительной «прививки» Достоевского я бы этого не понял.)
Чуть позже я прочитал записки самого Генри Мура. Лежа на берегу океана, он вдруг видит, чувствует, влюбляется в «голыш», в камушек, обласканный вековечной работой воды, ветра и солнца. «Голыш» с той самой «дырой», с отверстием, столь же плавным, как и весь он сам. «Я тогда постиг объем, постиг скульптуру, постиг другую – ТУ – сторону, другое измерение» – так описывает свое состояние английский скульптор.
А я вдруг понял, чем «дыра» Эрнста Неизвестного отличается от «дыр» милейшего гениального англичанина: тут не вековечная плавная работа волн, ветра и солнца. Тут – удар, катастрофа. Тут – страшная работа беды и боли. Тут – взрыв. Разрывается тело. Отлетают, разлетаются руки, ноги, пальцы, головы, глаза (на самом деле все это происходит в душе, с душой). ФОТО 58
Нет, нет, не в войне буквальной только дело: война идет даже тогда, когда она не объявляется и пушки молчат. Россия – не Англия. «Дыры» Неизвестного – ДРУГОГО происхождения. У Мура могут быть – должны быть! – «Король и королева». У нас, у наших, у Эрнста Неизвестного – их не может быть. В нашей истории отрубленные головы не прирастают...
А потом, уже зная наизусть Эрнстовы работы (и «Мальчика с мышкой», и «Молотобойца», и «Мулатку»), я вдруг понял, что он, Эрнст Неизвестный, может, пожалуй, все, что делали до него, но – не хочет. И упрекать его в этом – все равно что упрекать бегуна в том, что он бежит не как все, а быстрее, бежит на мировой рекорд и – бьет его. Медленнее бежать он уже просто не может.
… «Мы же начинали вместе...» Да, но каждый час Неизвестный выигрывал у вас минуту, каждый месяц – неделю, каждый год – месяц. А потому – сначала полз, потом пошел, потом побежал – все быстрее, быстрее – и наконец полетел...
Не буду останавливаться на его известных и неизвестных победах над политиками и холуями политиков, над предателями и завистниками, над собственными ранами и немощью. Джон Берджер сказал о нем (а сам Эрнст Неизвестный это доказал): «Человек предназначен для чего-то более высокого, чем переносить непереносимое». Это еще больше относится к человеку– художнику.
ФОТО 59
…Потом была мастерская Эрнста Неизвестного на проспекте Мира, в доме 41, строение 4. Она стала в 60-е годы своеобразным клубом интеллектуалов Москвы. Здесь бывали философ Мераб Мамардашвили и социолог Борис Грушин, поэты Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, театральный режиссер Евгений Шифферс и выдающийся ученый – лингвист и культуролог Вячеслав Иванов, философ и писатель Александр Зиновьев, режиссер Андрей Тарковский. Нередко заглядывали в мастерскую молодые, но уже «ответственные» работники ЦК из Международного отдела – Анатолий Черняев, Юрий Жилин, Борис Пыжков. Это был настоящий центр духовного притяжения всех надежных в умственном и нравственном отношении людей. Было еще несколько художников и философов, а также один нетаящийся стукач, подполковник КГБ, Леонид, кажется, который шутя жаловался: «Да на вас, братцы, и доносить нечего. Вы все об искусстве да философии, никакой антисоветчины». Действительно, никакой антисоветчины и не было, и не из-за этого стукача, хотя все всё понимали про существующую власть. Об этом говорить было скучно. Говорили о синтезе искусств, о Михаиле Бахтине. Я сразу был покорен голосом, напором, скоростью, глубиной суждений и беспощадностью мысли Эрнста, а также его невероятной эрудицией. Конечно, был надзор и много безобразия. «Сверху» – инквизитор, главный идеолог, атеросклеротик Суслов. «Снизу» – непросыхающий, ворующий все подряд Вася, а рядом...
Но рядом было не только безобразное, не только «красненькие» и «зелененькие» (так Эрнст определил чиновничью братию цекистов). Рядом было много понимающих его друзей. Все равно чудное и даже счастливое было время.
А как самозабвенно работали мы над иллюстрациями к роману Достоевского «Преступление и наказание» для академического издания. Наш друг Анатолий Кулькин в издательстве «Наука» придумал это издание в надежде протащить графику Неизвестного. (так и получилось несмотря на яростное сопротивление идеологических надсмотрщиков, учуявших опасность!). Моя работа была – выдавать идеи, Эрик, схватывая все налету, – делал «перевод» идей в графику. А потом сам стоял у медных пластин и я, замирая от восторга, глазел на его работу – настоящий творец!
ФОТО 105 107
Одно время я проводил в мастерской Эрнста буквально дни и ночи. Жить мне было негде (ушел из семьи), Эрик приютил меня, и я в его каморке на втором этаже отсыпался, а потом взапой читал и смотрел его альбомы. Именно там стал свидетелем многих интересных сцен.
Однажды к Эрнсту в мастерскую приехал очень знаменитый по тем временам и очень официальный скульптор. Приехал посмотреть Эрнстовы работы. Сидели втроем. Понятно, выпили. Я ушел наверх спать и вдруг услышал, а спустившись, и увидел, как этот человек ползал среди скульптур Эрнста, ревел и выл звериным воем: «И я бы мог! И я бы мог так!» Он думал, что он в студии один. (Хозяин мастерской после нашего общего раблезианского застолья отправился за раблезианской же добавкой.)
А вот еще одна сцена. Я спал у него в мастерской наверху. Эрику только что привезли отлитую скульптуру – уже не «гипсятину», а бронзу. И я видел, как бы это сказать, духовно-эротическую сцену: как он ее ласкал, щупал. Он был один – со своей работой. И это была такая красота!
Кстати, вот еще один эпизод к его личностной характеристике, свидетелем которого я был. Сидели вчетвером. Пили и говорили. Один из присутствующих, довольно высокого ранга цекистский чиновник, вдруг спьяну дико завелся и дал Эрику пощечину. Все замерли, ожидая, что сейчас Эрнст его просто убьет. Надо знать силу его рук. Когда к нему однажды подослали молодчиков избить его (в разборке за получение заказа на скульптуру), он взял одного за руки и сломал их. Эрнст расхохотался и неожиданно для всех сказал: «Дурачок, зачем же ты это сделал!» Ударивший вдруг сам заревел и попросил прощения.
Еще из его московской жизни. У него была помощница татарка Роза. Это была фанатичка, страстно в него влюбленная. И я как-то ему сказал: «Знаешь, чем кончится история с ней? Она в ревностной злобе перебьет твои скульптуры – «гипсятины», сожжет твою мастерскую и постарается убить тебя». Вдруг напало на меня такое провидение. Прошло какое-то время. Вдруг его звонок. Радостный голос: «Каряка, свершилось! Она перебила скульптуры и хотела меня убить». Приезжаю к нему. Разгромленная мастерская.
А вот еще одна история. Пришла к нему какая-то иностранная делегация с «сопровождением». Эрнст подходит к одному из «сопровождавших» и спрашивает: «Вы – полковник?» Тот, опешивши, – «Нет, подполковник». Мы его звали с Эрнстом – «зав. отделом по нашим мозгам». Он работал в КГБ и при этом хорошо закладывал. Чувствовали ли мы постоянный надзор за собой? Разумеется, чувствовали. Но это странное состояние, для нас его как бы и не было. Потому что «они» уже стали считаться с нами, а мы перестали считаться с «ними». Страх пропал, особенно у Эрнста. У него вообще была другая точка отсчета времени и жизни.
Однажды Эрик разыскивает меня по телефону и не совсем трезвым голосом говорит: «Приезжай!» Застаю такую картину. Эрнст сидит верхом на этом подполковнике и разговаривает с ним таким образом (тот пытается что-то вякать): «Молчи, кагэбэшная б…» Вдруг скрип тормозов. Машина. Входит Женя Евтушенко. Несколько минут наблюдает сцену и исчезает. У меня мелькает мысль – струсил. Проходит минут 15-20. Снова скрип тормозов. Машина. Входит Женя с двумя белоснежными рубашками в руках. Вешает на вешалку и уходит.
А сколько было разговоров, серьезных и не очень, сколько было хохм, сколько баек рассказано! Вот одна из них. Эрнст: «Еду в Свердловск, к родным. Иду в вагон-ресторан – заперто. На следующей станции забегаю с другой стороны – заперто. Залезаю на крышу (десантник все-таки), заглядываю в окно сверху, с крыши, – там черт-те что, бардак полный… И тут же у меня родилось определение. Знаешь, что такое Политбюро? Это вагон-ресторан, захвативший власть в стране…»
У Эрнста я познакомился с английским историком искусств Джоном Берджером, который писал о нем книгу. Много говорили о его работах, о характере, о месте в мировой скульптуре. Я уже начал кое-что понимать в творчестве Неизвестного, и Джон попросил меня написать предисловие к его книге. Я согласился не сразу: было страшновато. Но, изрядно помучившись, написал. Берджер к тому времени уже уехал. Я же, по совету своей хорошей знакомой Иры Огородниковой из Иностранной комиссии Союза писателей, отправил ему текст через ВААП, где мне его прекрасным образом цензура замотала. В 1968 году меня исключили из партии. Естественно, я оказался в «черном списке». Ни в одном журнале не удалось опубликовать мне свою работу об Эрнсте Неизвестном, которую я назвал:
«Если можно непосвященному...
Я горд тем, что мой соотечественник Эрнст Неизвестный совершил и совершает выдающиеся художественные открытия, имеющие не только национальное, но и общечеловеческое значение.
Англичанин Джон Берджер, автор известных книг о Гуттузо и Пикассо, одним из первых на Западе открыл Э. Неизвестного, и, будь я искусствоведом, я бы позавидовал ему, хотя, наверное, он делает не больше, чем свое профессиональное дело, но делает его квалифицированно и добросовестно. Он сам очень точно сказал: «Никакой критик не имеет права утверждать, что он открыл художника. Это пахнет собственностью. Но иногда вера критика в то, что искусство не умирает, оказывается правильной».
…У Э. Неизвестного есть такая скульптура. Двое душат друг друга. ДРУГ – ДРУГА! Даже брат – брата: «Каин и Авель». А корень – общий. У него есть также проект работы (еще в пластилине), где Каин и Авель – внутри одного человека… Когда видишь это, думаешь: как часто мы спорим прежде, чем начнем понимать друг друга (и себя), даже – вместо того, чтобы понимать. «В споре рождается истина»... А сколько – убивается?
Люди могут и должны понимать друг друга, но здесь нет иного пути, как учиться этому. Во взаимопонимании – и одна из вечных целей человеческого существования, но в нем же и средство ее достижения. Сделать – значит делать. Дойти – значит идти. Познать – значит познавать.
Попробую рассказать о своем опыте познания Неизвестного. Им создано около трехсот скульптур, несколько тысяч рисунков. В 1958 году в московском крематории у Донского монастыря был установлен его рельеф «Вечный круговорот». В 1967 году в Крыму, в пионерском лагере «Артек», закончена работа над рельефом «Прометей и дети мира» (85 квадратных метров в камне). В Зеленограде, подмосковном городке науки – 16-метровая скульптура современного Прометея.
ФОТО 098
Э. Неизвестный – победитель международных конкурсов скульптуры в Югославии (1966 г.), где он изваял «Кентавра» и «Каменные слезы», и в Объединенной Арабской Республике (1967 г.), где он, в содружестве с советскими архитекторами, представил проект гигантского монумента в виде цветка лотоса, который будет стоять посередине магистрали, пересекающей Асуанское водохранилище.
Ландау, Капица, Шостакович, Коненков приветствовали смелость мастера.
Одного этого уже достаточно для того, чтобы попытаться определить место Неизвестного в современном искусстве, не уповая на так называемый беспристрастный «отбор Времени», на «неподкупный Суд Истории», как будто отбирать и судить может кто-нибудь, кроме самих людей. Слишком часто апелляция к «Высшему Суду Истории» и «Времени» есть фраза, скрывающая боязнь ответственности и означающая, говоря словами Достоевского, «стыд собственного мнения».
Неизвестного выдавили из страны
Эрнст Неизвестный нередко говорил, что он никогда не был диссидентом, что его вынудили уехать. Он здесь очень точен в своих формулировках, как и всегда. Он – не диссидент политический. Он – великий художник, который по происхождению, по определению – диссидент изначальный. Он – другой диссидент. Не знаю, согласится ли он со мной. У гениальных людей – я счастлив, что некоторых из них наблюдал, – есть особенность: жить в другом времени, отдавая, конечно, дань этому времени (куда тут денешься!). Микеланджело общается с Данте, Неизвестный – с Микеланджело. Они общаются на своем особом языке. Это трудно понять простым смертным. Иногда это понимание пронзает. В нас, простых смертных, кое-что, видно, имеется, если нас пронзает понимание этого, если эти струны в нас отзываются. Для меня это – тайна, чудесная, обнадеживающая.
Не было для него, полагаю и «национального вопроса», как нет его в христианстве. Иудей, эллин одинаковы перед Богом. Эрнст, этот французо-татаро-еврейско-русский человек, для меня является самым русским. Абсолютно русская натура. Правда, в отличие от многих русских у него есть дисциплина труда, дисциплина ответственности и обязанности, как впрочем у Достоевского и Пушкина.
…И вот этого нашего русского гения «выперли» в 1976 году из страны, как делали это со многими выдающимися деятелями искусства (М. Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский, Н.Коржавин, А.Галич…).
В чем была иезуитская хитрость андроповской высылки таких людей?
Эрнст – один из тех, при которых нельзя быть глупым (глуп – промолчи!), нельзя быть бесчестным, бессовестным. При Солженицыне нельзя врать, при Эрнсте нельзя быть бесчестным. Это люди, при которых невольно умнеешь, становишься совестливым и, позволю сказать даже, «талантливеешь». Одновременно эти люди никогда своим превосходством тебя не унизят, а, наоборот, подымут тебя, и ты еще найдешь в себе силы новые. Это удивительный дар. У Набокова, кажется, есть такая мысль: важнее всего для поколения присутствие гения. Хотя до людей часто не доходит, что гений – рядом. Вот рядом с нами жил гениальный художник – Эрнст Неизвестный. До многих не доходило счастье такого сосуществования. Но андроповские иезуиты поняли опасность такого «сосуществования».
Это было лето 1976 года. Его высылали. Отчаяние. Он вопил: «Ну, как же так! Я хочу отдать! Мне ничего не надо. А они не берут».
Поэтому он уехал в свои 50…
Перед отъездом подарил мне альбом с трагичнейшим, в сущности, посвящением: «Дорогому другу Юре от Эрнста как тень мечты». (Потом исправил – «как тень замысла».)
ФОТО 083 А и 083
Скульптура – это промышленность, это мощная промышленность, это не только гипс, глина, это бронза. Когда он не мог работать скульптуру, его замыслы трансформировались в графику, и он стал создавать эти бесконечные альбомы.
«Тень замысла». Потом я уже узнал, что такие же рисунки, замыслы Микеланджело обозначал для самого себя как «концентрацию моего ума, воли и сердца». Большинство их Микеланджело сжег, но что-то осталось, около 200.
Когда Эрнст уехал из страны, у него было около 10 000 таких графических замыслов.
На Западе он был принят с распростертыми объятиями как «диссидент». А он им не был и не хотел быть. Он хотел только работать в скульптуре и начал все с нуля.
А когда я повидал его там, в его мастерской в Америке, уже в 1990 году, я вновь был потрясен… У меня и раньше так бывало: когда аккумуляторы моей духовной энергии подсаживались, ехал к Эрнсту. Это такой сгусток духовной энергии. Он всегда в поиске, всегда в безразличии к своему прошлому. То, что он сделал вчера, ему уже неинтересно. Он весь полон новыми замыслами, новой работой. Когда я бываю в Нью-Йорке, всегда живу у него в мастерской. Другого такого работяги, труженика, творца, творящего по нарастающей, я не знаю.
Впрочем, первая наша встреча «на Западе» произошла с Эрнстом по телефону. В 1987 году приезжаю в Мексику и там, в Мехико, иду в музей Троцкого. Кстати, на следующий день после этого получаю «втык» от посла – «Поздравляю вас, первое, что вы сделали, – посетили музей, который советским людям не рекомендуют посещать». Знакомлюсь с внуком Троцкого и его правнучкой. Она вечером улетала в Нью-Йорк, и я через нее передал записку Эрнсту Неизвестному. А надо вам напомнить, что он тогда подписал письмо десяти в «Московские новости», среди них были Зиновьев, Максимов, Любимов и др., где авторы говорили, что не поверят они ни в какую перестройку и гласность, пока их письмо не напечатают в открытой печати. И я написал ему: «Эрнст, ну напечатали твое письмо. Вот тебе другой аргумент. Вчера в Москве в ЦДЛ я произносил тост за вдову Бухарина, а сегодня из Мексики шлю тебе привет с правнучкой Троцкого. Ну, мог ли ты это представить раньше? Значит, что-то происходит».
Вдруг в тот же день, правда ночью, звонит мне в Мехико Эрнст – я жил тогда в доме моей аспирантки Сельмы Ансиры – и часа два мы говорим обо всем. Эрнст не верит, что меня выпустили. Вот так мы первый раз встретились по телефону.
Да, была еще одна «несостоявшаяся телефонная встреча». Когда ему, Эрнсту, пришла в голову идея памятника жертвам утопического сознания, он задумался: кому же позвонить? Поймет только Юра Карякин! (Пишу это потому, что Эрнст сам написал об этом.) А дозвониться ко мне не смог.
За последние годы я побывал три раза в его мастерской в Нью-Йорке. Полет продолжается с еще большей мощью. Теперь уже совершенно очевидно, что его «Древо жизни» – это грандиозный небывалый ОБРАЗ НООСФЕРЫ, а его мемориал жертвам терроризма XX века, названный им для себя «Жертвам утопического сознания», – это новое открытие старой христианской, пушкинской мысли: «И милость к падшим призывал...»
Для меня Неизвестный – наш Микеланджело. Я в этом снова убедился во время открытия в Магадане в 1998 году памятника жертвам сталинских репрессий.
Гигантский замысел. Ведь у нас почти все зациклились на сталинизме, ленинизме. А Неизвестный придумал – это его формула – сделать памятник всем жертвам утопического сознания.
Магадан. Июнь 1996 года. Почти вымерший город… и вдруг на открытие памятника пошли сотни, тысячи людей.
ФОТО 103A 103 B 103 C
Что это за монумент? Долго идешь к нему, идешь в гору, все время одолеваешь сопротивление земли, и все время чего-то ждешь. Сам монумент поставлен так, что создается мощный эффект ожидания. Он гениально построен. Идешь по банальным подмосткам, по-прежнему напряженный от ожидания, и наконец входишь в камеру с маленьким окошком. И тебя охватывает жуткое ощущение, что здесь присутствуют все души, погибшие в ГУЛАГе. Пребывание в камере длилось какую-то секунду, потому что шла очередь. Но кого я ни опрашивал, мне говорили – да, ты на мгновение остаешься с душами всех погибших.
Я сказал – Микеланджело. Никому такое и не снилось. Была другая эпоха, другие люди, другое преодоление иллюзий.
Но вот чтобы выкарабкаться из нашего поколения в вечность, понять абсолютную беспрецедентность этого поколения и тем не менее из него выйти и поглядеть на нас, на всех оттуда, сверху, для этого нужен был гений Эрнста.
Эрнста упрекали – целая литература на этот счет есть, – что в скульптуре он литературен. А Микеланджело не литературен? Он весь в Сикстинской капелле – литературен. Все искусство европейское литературно, потому что оно вышло из Книги книг – Библии. Оно «переводит» Библию на язык нас, грешных, которые, читая ее, не могут понять, а в искусстве получают художественный «перевод». Музыка ли, живопись, скульптура – литературны.
Литература, литература… Иллюстрации к Данте. А что такое Микеланджело, как не иллюстрации к Данте? А у Эрнста буквально «Божественная комедия» – гениальные рисунки. «Иллюстрации» (в кавычках) к роману Достоевского «Преступление и наказание» – не иллюстрации, а просто перевод на другой язык. Только что он перевел на свой художественный язык «Экклезиаста». Делает рисунки к Апокалипсису – Откровению Иоанна Богослова.
Что такое искусство Эрнста Неизвестного? Это притча Нового Завета на языке XXI–XXII веков.
Из дневника 1966 года:
Есть два варианта: либо Эрнст Неизвестный великий, либо – не великий.
Им-то будущим, легко не ошибаться, когда все прояснится, а нам каково?
А вдруг Неизвестный – мистификатор вроде черта Воланда из «Мастера и Маргариты» Булгакова? Только и разговоров в Москве сейчас что о романе. Только и слышишь: «Гениально»! «Вот это реализм»! А, по-моему, все это мистификация. Сатана с черным котом появляется в Москве, морочит людей, всполошил полстраны, а потом исчез, словно его и не было. А людям-то надо жить! А если они но захотят уже жить по-старому?
Вот иногда я думаю, что так и Эрнст Неизвестный: то ли кажется он великим, то ли в самом деле такой, то ли есть он, то ли нет его совсем.
Смотришь на его скульптуру – урод уродом, а иной раз взглянешь – и повернется он вдруг так, что и осенит тебя. А в общем мистика все это. Если Неизвестный – великий художник, то он все равно, рано или поздно, пробьет себе дорогу. А иначе – какой же он великий? Вот здесь-то и главная ему проверочка. Прошел через нее – значит прав. Не прошел – ничего не поделаешь. Не смог – значит и не мог. И браться не надо было. Сурово? Но справедливо!...
Вот и прошли годы, прошла жизнь. Эрнст в Москве, приехал с друзьями отметить свой юбилей – 80 лет! В день его рождения (9 апреля ) подарил ему эту статью из «Новой газеты»:
ФОТО 038
ЭРНСТУ НЕИЗВЕСТНОМУ – 80
ХУДОЖНИК ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЭПОХУ АПОКАЛИПСИСА
Посвящается маме Эрнста Неизвестного
Бэлле Абрамовне Дижур
Когда бы грек увидел наши игры…
(О. Мандельштам)
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек…
(А. Ахматова)
Почему такое посвящение? Да потому, что она – его мама, а у нее – такой сын. Потому, что она (по профессии биолог, доктор наук, из тех гонимых генетиков) и сегодня, в свои 102 года, работает – пишет стихи. За последнюю книжку стихов получила престижную американскую премию (сейчас живет в США). Потому что она выжила, получив две похоронки на сына, ушедшего добровольцем на фронт в 17 лет и «посмертно» награжденного орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», а потом встретила его чудом выжившего после тяжелого ранения.
Потому что ее сын, искалеченный на войне, с перебитым позвоночником, сумел закончить Суриковское училище, параллельно учась на философском факультете МГУ, стал скульптором, получил благословение великого Сергея Коненкова, академика Конрада, Михаила Бахтина. Выиграл несколько конкурсов, международных и у себя на родине. А еще потому, что он прошел и выдержал еще одну войну – травлю, один против всех, начиная с Генсека ЦК КПСС (Никиты Хрущева) и начальника КГБ (Шелепина) и кончая мелкими партийными боссами и многочисленными завистниками из сталинских лауреатов.
Потому что в свои 50, ее сын, так и не присоединившийся к стае прикормленных чинуш МОСХа, лишенный государственных заказов и какой-либо поддержки, «невыездной» победитель, покинул родину. Но перед этим поставил памятник Н.С. Хрущеву (по просьбе его семьи, а, возможно, по завещанию, его самого). Когда я побывал в 1992 году в США у Э. Неизвестного и А.И. Солженицына, услыхал от них одну и ту же фразу: «Вот дураки, что выгнали, я бы там умер от удушья!»
Потому что ей, матери, довелось увидеть, как ее сын, начал на Западе все с нуля, и добился триумфа и там, и в новой России.
Главное впечатление от Неизвестного: бешеная созидательная энергия, невероятно стихийная мощь, граничащая с разнузданностью, и мощная дисциплина труда. Сочетание, казалось бы, несоединимого. Титанизм, но не богоборческий. Титанизм как поиск Бога.
«Диссидентом никогда не был» – так Эрнст говорит о себе. И здесь он очень точен. Он никогда не был диссидентом политическим, хотя уже в начале 60-х лучше всех нас понимал сущность режима и считал, да и говорил, что коммунизм, как и фашизм преступны, а сама попытка создать «нового человека» антропологически неверна. Говорил, что коммунизму, как и фашизму присуще представление об искусстве как о магии, заклинании для покорения толпы.
Однажды на каком-то заседании МОСХа он сказал: «Вот есть государство. Я хочу ему все отдать! Мне ничего не надо. А они не берут».
Прощаясь, Эрнст подарил мне небольшую бронзовую скульптуру: двое душат друг друга, а корень – общий. Себя и душат. Они как бы слиты. Лиц почти нет: зверея, человек теряет лицо и обезображивается. На головах – каски. Но это, конечно, не просто отклик на минувшую войну: вся история человечества – история войн. И все войны, в сущности, – гражданские, братские, если, действительно, считать, что люди – братья. А еще обратите внимание: отверстие между ними – в форме сердца. Получился портрет и человечества, и человека (разве каждый человек сам себя не душит?). Гениально простая, страшная и понятная всем метафора.
В серии Гойи, которую называют «Черная живопись», есть одна картина, пронизанная теми же чувствами и мыслями, что и скульптура Эрнста: два человека (вроде пастухи) бьют друг друга дубинами, а сами вот-вот утонут в болоте…. Вот такая страшная перекличка гениев.
ФОТО 099 – 100
Уезжая на «ту сторону», художник оставил здесь, кроме надгробья Н.С. Хрущеву, памятник Ландау, скульптуру «Дети мира» в Артеке, великолепную мозаику в Ашхабаде, огромное рельефное панно в Зеленограде.
Сейчас у Э. Неизвестного создано около тысячи скульптур и несколько тысяч графических офортов. Из графики назову только иллюстрации к Достоевскому – «Преступление и наказание» и портрет самого писателя. Иллюстрации к произведениям Беккета, к «Божественной комедии» Данте, к «Екклезиасту». Совсем недавно он прислал мне для моей книги «Достоевский, Гойя и Апокалипсис» двенадцать офортов к «Откровению Святого Иоанна Богослова»… Не хочется называть всё это «иллюстрациями». Точнее было бы сказать – это просто свое понимание, свое переживание, проникновение, конгениальное великим книгам, свой перевод на другой художественный язык.
В Швеции есть музей Э. Неизвестного. Его скульптуры не только часто выставляются, но и навечно поставлены в Швейцарии, Югославии, в Лондоне, Нью-Йорке, в Вашингтоне, Милане, Женеве…
О нем написаны за границей десятки книг (у нас, кажется, ни одной) и сотни статей.
После возвращения ему российского гражданства он поставил в Москве скульптуру «Идущий сквозь стену» (перед Музеем изобразительных искусств), монумент «Возрождение. Архангел Михаил» (на Ордынке) и, наконец, «Древо жизни». О нем надо сказать особо. Семиметровая бронзовая скульптура. Ваял ее более 20 лет. Какое-то невероятное уникальное соединение монументальности и ювелирности. Идея – единство всех религий, не только мировых, но и самых малых. Поистине воплощенное religare, духовное единство, связь всего человечества.
Его грандиозный замысел поставить «памятник жертвам утопического сознания» (художник принципиально не захотел политизировать название) осуществлен на треть: в Магадане воздвигнут монумент «Маска скорби». Я был на его открытии.
Неизвестный мечтает завершить «треугольник скорби» созданием монументов в родном Екатеринбурге и в Челябинске. А еще за последние годы он поставил памятник погибшим шахтерам в Кемерово, скульптуру «Золотое дитя» – в Одессе, скорбный монумент – памятник жертвам депортации калмыцкого народа в Элисте.
Есть у него огромная серия распятий – не только Христа, но – женщин, мужчин, детей. У покойного папы Иоанна Павла II на столе лежало подаренное ему Э.Неизвестным распятие «Сердце Христа».
ФОТО 104
Э.Неизвестный – профессор философии Колумбийского университета, действительный член Шведской Королевской Академии наук, искусств, гуманистики, Европейской Академии искусств в Париже, член Нью-Йорской Академии наук…
У многих художников я замечал такую особенность: беспрестанно перелистывать, переглядывать свои прежние работы. Эрнст начисто лишен этой особенности. Точнее он просто не любит оглядываться. Он всегда в поиске, в новых замыслах. А вот о них рассказывает так, что видишь их наяву.
Эрнст, дорогой, желаю тебе только одного – дай тебе Бог достичь возраста Тициана или твоей мамы.
1968. ПЕРЕЛОМ СУДЬБЫ
В 1967 году Федот Сучков привел меня в дом вдовы Андрея Платонова Марии Александровны. Познакомились. Как-то сразу расположились друг к другу. И я стал приходить к ней одно время чуть ли не ежедневно.
Мария Александровна дала мне читать «Чевенгур», «Ювенильное море», главное – из неопубликованного. Читал, читал… был какой-то запой платоновский.
Однажды Мария Александровна показала мне удивительный портрет (фотографию) Платонова. Я не удержался: «Боже, какой олененок». Марья Александровна подарила мне этот портрет «на память о нашем олененке».
В это время готовилось к изданию «Избранное» Андрея Платонова (уж не помню, для какого издательства). Я должен был написать предисловие. Как всегда, опаздывал со сроками, мучился… Вдруг в начале 1968 года звонок от Георгия Березко, который был в те годы секретарем Союза писателей СССР: «Знаю, что вы пишете о Платонове. Так вот, мы хотим пригласить вас выступить у нас в ЦДЛ». Я не особенно вник в конкретный смысл звонка, но понял его так: в ЦДЛ будет семинар о творчестве Платонова. Страшно обрадовался: разговорюсь на семинаре и закончу предисловие. Готовился говорить только о Платонове. Набрасывал заметки.
31 января 1968 года.
Обычно, когда мне нужно было являться в «свет», Юлик Крелин давал мне свой костюм. Мы жили тогда по соседству в Новых Черемушках: я – на Перекопской, он – на Наметкина.
С утра Юлик, как всегда, очень рано ушел в больницу и наказал своей дочери Маше: придет Карякин – выдать ему костюм, но будет просить выпить «для храбрости» – ни-ни… И спрятал початую с ним накануне бутылку водки на шкаф. Я костюм надел, водку нашел, для храбрости выпил и отправился на «семинар».
Поехал в ЦДЛ на такси, но к самому дому подъехать не удалось, вся улица перед ЦДЛ была заполнена людьми, которые хотели туда попасть. Много милиции. Меня не пропускали. Я как-то протиснулся. Выбежала какая-то девочка из организаторов вечера: «Пропустите… Юрий Федорович, мы вас ждем». Дальше началось нечто невообразимое.
Оказалось, это был никакой не семинар (то ли Березко не так сказал, то ли я прослушал), а вечер памяти Платонова. Ничего не понимая, влекомый какими-то людьми, я вдруг оказываюсь в президиуме Большого зала ЦДЛ, где сидят Мария Александровна Платонова, Юрий Нагибин, Георгий Березко и другие почтеннейшие люди. Зал забит до отказа. Люди стоят в проходах. Я смотрю в первые ряды и ужасаюсь – сидит сам Каверин. Замечаю поодаль Эрнста Неизвестного. Еще какие-то знаменитости. И одновременно много незнакомых людей – «искусствоведов в сером». Я что-то начинаю понимать...
Нагибин открывает вечер. Запомнились последние слова его вступительного слова: «…и вот Платонов, которого травили, но не успели убить, умер и ушел в бессмертие». И вдруг, закончив свое вступительное слово, Нагибин говорит: «Слово для доклада предоставляется Юрию Карякину».
Все было абсолютно неожиданно, как удар по голове. Не идти? Невозможно. Пошел как на казнь. От страха я свои приготовленные страницы повернул вверх ногами и, находясь в ступоре, никак не мог сообразить, что делать.
«Поменьше бы нам таких бессмертий», – начал я и замолчал… Закатил паузу подольше качаловской. Молчал, наверное, минуты три. Этого своего молчания никогда не забуду. Зал тишал. А я никак не мог собрать мысли в одну точку, с ужасом понимая, что говорить мне нечего, что к докладу я не готов, ведь готовился я к другому. И тут вдруг вспомнил письмо глухонемого из детдома. Раньше, при подготовке к семинару, и в мыслях этого не было. А теперь я вдруг почувствовал, что все спасено. Вокруг этой точки какого-то мощного магнита все собралось. Понял, что спасся.
Теперь я мог начать издалека, ведь эта точка мне все освещала.
По-видимому, мое напряжение и
страх и радость открытия как-то передались
залу. Почему спасительной точкой стало
письмо глухонемого? Сама речь, голос,
сломанные беспредельной искренностью
слова. Я и начал… с языка Платонова,
пока не нашел слово «вещество». Грубое
и даже антиэстетическое слово «вещество»
стало главным… Все мое выступление
было абсолютным экспромтом. Чтобы его
понять, надо вжиться в тот момент, в ту
нашу жизнь, когда уже началась «пражская
весна», а Солженицына вместо обещанной
Ленинской премии стали травить, когда
уже прошли процессы Синявского и Даниэля,
а в стране повсюду власть восстанавливала
сталинщину.
Вот из этого и родилось
все мое платоновское выступление,
спонтанно, неожиданно для меня самого.
Я не знал всякий раз, что скажу дальше.
Но сами произнесенные слова требовали
неизбежно чего-то следующего. И я
почувствовал, что нужно просто их слышать
и точно выражать свои чувства. Поэтому
все так и получилось. Ни одного
заготовленного слова для этой речи у
меня не было. Все заготовки для семинара
увяли, были забыты. Мною правил какой-то
стихийный порыв. Не знал я заранее, что
буду предлагать пари о Солженицыне. Не
знал, что буду говорить о тех, кто
поднимает сталинщину. Мне каким-то
образом передавалась энергия зала. Все
как будто ждали, что я должен это сказать.
Меня, конечно, подстегивали овации.
Нарастало напряжение. Вдруг всплыла
поговорка: «Черного кобеля не отмоешь
добела».
Выступление это оказалось одной из решающих минут моей жизни и судьбы. Чтобы сбавить пафос этой речи и рассказа о ней, добавлю. Уходя с трибуны «с триумфом», спустился в зал. Ко мне бросился Петр Якир. Сует бумагу: «Юра, вот мы тут написали протест против возрождения сталинизма. Ты только что об этом говорил. Подпиши». Если бы я был помоложе лет на десять, я бы кончиком победоносного копья Дон Кихота, не глядя, расписался бы. Но тут я сказал: «Дай бумагу». Очень спокойно прочитал, перечитал и сказал: «Я подписывать не буду. Во-первых, потому что я сказал все, что хотел. А во-вторых, дал себе зарок чужих бумаг не подписывать, а писать самому».
– Ты что, трусишь на баррикаду идти?
– А я только что с баррикады. Но сейчас я тебя понял. Ты меня хочешь взять «на слабо». И теперь я понимаю, как ты других берешь «на слабо». Ты же типичный Нечаев. И прости, сейчас не могу тебе дать по морде только потому, что ты пережил и перестрадал куда больше моего. И рука у меня не поднимется. Но ты играешь роль провокатора. И теперь я понимаю, почему ты Юлика (Кима) втянул в это дело. Юлик – поэт, певец. Ему не место на баррикадах…
– Отсидеться хотите?
– Петь, не искушай, а то я правда тебя ударю.
Ко мне подошел Эрнст. Мы с ним выпили по рюмке коньяка. Подошла какая-то девочка и сказала: «Можно вашу руку?»
Еще чего не хватало! Сдуру дал. Всего, что она наговорила, не помню. Предрекала «великую судьбу». Но хорошо помню одно: «Вы доживете до 74 лет». Я был этим поражен, потому что еще давным-давно какая-то цыганка нагадала мне то же самое.
Следом за мной выступили многие.
Я, конечно, понимал, что даром мне это не пройдет. Но и поступить иначе я не мог: слишком много накопилось молчания, понимания. А тут вдруг совершенно неожиданно для самого меня и взорвалось.
Вот эта речь о Платонове:
Я познакомился с Платоновым поздно, гораздо позднее, чем, наверное, надо было. Лет на 15–20 позже – не по своей вине, а года на 3–4 – уже по своей.
Прежде всего – ошеломил язык. Не гладкая наезженная дорога, а какой-то лес, часто дремучий, с буреломами на каждом шагу. И все время останавливаешься, продираешься, то есть задумываешься, озадачиваешься.
Когда происходит в литературе и поэзии действительно большое событие, прежде всего сталкиваешься с необычайностью языка нового художника. Впрочем, часто это «новое» оказывается стилизацией, модой или бессильной потугой. Но, читая Платонова, я как-то сразу почувствовал, что речь идет о чем-то мне ранее неизвестном. И я убедился в этом особенно, когда передо мной все чаще стало мелькать одно, пожалуй, его самое любимое слово. Сначала я наткнулся на него случайно, потом еще раз и еще, а потом стал его искать, предчувствуя его появление, а находя, радовался.
Слово это – «вещество».
Оно встречается буквально сотни раз и каждый раз удивительно на месте и обновленным.
О девушке: «Бедное грустное вещество».
Или: «...свирепое мировое вещество».
Или еще: «Альвин любил земное вещество».
«...Я сел в раздумье около реки, тихо влекущейся вдаль, поглядел в звездное скопление на небе, на это будущее поприще деятельности человека, в бессмертную сущую пустоту, наполненную тонким тревожным веществом, бьющимся в ритме своей неизвестной судьбы».
«Солнце – вещь дружбы».
У Платонова «вещество» небесное и земное, но всегда живое, всегда страстное.
Даже рождение мысли его героев происходит как-то вещно: «Когда шевелилась у Филата мысль, он слышал ее гул в своем сердце».
И я думаю, что слово это, вернее, этот образ – «вещество» – очень точно выражает гул сотворения нового мира, гул той социальной пра-материи, из которой и начал строиться этот мир после и в результате нашей революции. Борьба хаоса и космоса. Как у Толстого – все переворотилось и начинает укладываться. Это настоящее «сотворение мира», а не то, выдуманное задним числом, каким оно нарисовано в недавнем одноименном романе.
Характеристика «вещества» у Платонова неоднозначна. И отношение к этому «веществу» у различных людей очень различно, противоположно: от сознания родства с миром до вражды к нему, от желания слиться с природой, понять ее до жажды подчинить ее себе, изнасиловать. Один любит людское вещество, а у другого – «равнодушие мастера, бракующего человечество». Мечта одного – «наша власть не страх, а народная задумчивость». Другой же мечтает о том времени, когда «мягкое тело Земли затрепещет в чьих-то надежных железных руках», когда можно будет на веществе человечества поставить сургучную печать.
И полемично очень звучат у Платонова такие слова: «Человек тебе не главный материал» (материал – это нечто неживое, это не вещество). Или: «Душа человека – она профессия, и продукт ее дружба и товарищество». Платонову не надо доказывать себе, что каждый человек – неповторим, «сокровенен». Он из этого просто исходит.
Читая Платонова, убеждаешься еще раз в том, что все наши идеалы осуществляются ровно в той мере, в какой мы сами – лично и все вместе – их воплощаем. Не больше, но и не меньше. Все, что мы делаем и во имя чего мы делаем, – это не больше и не меньше, чем мы сами. «Ни бог, ни царь и ни герой...»
У Платонова нет никакого прекраснодушия. Он-то великолепно понимает, что сотворение нового мира происходит не из отборного, какого-то особенно чистого «вещества», неизвестно где имеющегося, а из всякого, из всего наличного «вещества» мира, из всего «вещества» социальной действительности.
И вот отсюда-то, вероятно, и возникает особенно живое платоновское «вещество» языка. То, что он изображает, естественно, диктует ему и то, как это надо делать. Содержание и здесь, как всегда, ищет и находит свою форму. Предмет требует своего метода для познания. Платоновское «вещество» языка тоже словно корежится, корчится. Оно тоже будто неладно еще. Оно живое, одушевленное. Оно тоже, кажется, мучительно рожает и воплощает в себе истину, как «струящееся мировое вещество» рожает звезды и планеты, как чрево земли рожает жизнь, как народ ищет и находит новую социальную правду. Но у Платонова это кореженье языка, эта неладность, это корченье, роды эти – это искусство. Это – мастерский отбор слова. Это не отсутствие лада, это свой особый лад. Только на него надо настроиться. Платонов – один из тех очень немногих художников, кто высекает своеобразную внутриядерную энергию слова, но это – лишь выражение и проявление неиссякаемой энергии самого бытия, самой жизни.
Может быть, это субъективно, но у Платонова слово не только видишь и слышишь, но и осязаешь. Его язык сам какой-то вещественный, и мягкий, и упругий, и обладающий почти физическими свойствами, скульптурностью. Тебе как будто передаются те же ощущения, что были, вероятно, и у Платонова, который пальцами ваятеля мял вещество языка, но создавал и преобразовывал его при этом по его собственным нерушимым законам, т. е. в действительности не корежил, а очень осторожно лепил, ваял, обрабатывал...
Герои Платонова – люди, рождающиеся нелепыми, угловатыми, сильными в своей первородной силе и слабыми в своей первородной же слабости.
«Мы не грязь, – писал Платонов, когда ему было еще 20 лет, – мы растем из грязи, выбиваемся ростками».
Один герой Платонова – из тех, кто всю жизнь жил, не думая, не умея думать, а умея лишь вспоминать, – говорит: «Теперь хочу работать над веществом существования». И это, быть может, главный итог, выражающий окончание спячки и пробуждение огромных масс.
Платонов и является плотью от плоти, кровью от крови, «веществом» от «вещества» – революции.
Но здесь я хочу напомнить об одном страшном эпизоде. Речь идет об очерке Платонова «Впрок» (1931), написанном с потрясающей любовью и болью за «вещество» ленинского плана кооперации, написанном с убеждением в том, что нельзя кромсать это «вещество». Прочитав этот очерк, Сталин сказал: «Платонов талантлив, но сволочь». Поставил, так сказать, грубую сургучную печать на тончайшем платоновском «веществе». Припечатал. И эта печать надолго, до смерти, решила публикаторскую судьбу Платонова, и не только публикаторскую.
ДАТЬ ПОРТРЕТ ПЛАТОНОВА («ОЛЕНЕНОК»)
А эта «сволочь» оросила – он был и мелиоратором – сотни, если не тысячи гектаров земли, чтобы помочь крестьянам. «Сволочь» эта принимала участие в строительстве десятков, если не сотен электростанций. А самое главное, «сволочь» эта писала книги, не все их, к сожалению, мы имеем еще возможность прочитать. Но все они, в том числе и неопубликованные, – о «прекрасном и яростном мире», все они пронизаны счастьем за счастье людей, надеждой на их надежды, болью за их боли, трезвым осознанием невероятных трудностей на пути решения невероятных же задач и осознанием нераздельности судьбы писательской и судьбы народной.
Вышеприведенная лаконичная оценка – для меня еще один (и не лишний) аргумент за правоту ленинского Завещания, где Ленин прямо говорил – это опубликовано, – что Сталин играет роль «Держиморды». Здесь для меня еще один – не лишний – аргумент за то, что нерасчетливы, тщетны, смехотворны, хотя и очень опасны попытки тех писателей и поэтов, которые вопреки решению ХХ и XXII съездов хотели бы вернуть «вещество» Сталина к «веществу» Ленина. Убежден: черного кобеля не отмоешь добела.
Я вспоминаю один из романов Платонова, опубликованный еще не полностью, а частично, – «Чевенгур». Нельзя и здесь не удивляться проницательности Платонова, его гениальности.
...В город приходит революция, но люди, зараженные той болезнью, которую Маркс называл «казарменным коммунизмом», извращают содержание революции. Они рассуждают так: с помещиками покончено, с буржуазией покончили, с кулаками покончили – что теперь делать? Нужно искать «КЛАСС ОСТАТОЧНОЙ СВОЛОЧИ»! Они заставляют одного из книгочеев перечитать «Капитал» – для руководства к действию. Там ведь обязательно, мол, должно быть сказано о «классе остаточной сволочи»... Читали, читали – не нашли. И решили так: «Писал, писал человек, а мы все сделали. А прочитали – лучше бы не писал. Ну, ничего, мол, сами найдем этот класс!» И нашли. В конце концов, такие герои и задают вопрос: а не является ли именно истина классовым врагом? – и, само собой разумеется, дают положительный ответ. Истина и объявляется классовым врагом, а стремление к ней – главным основанием и сигналом для зачисления в «класс остаточной сволочи».
В этот «класс» может попасть кто угодно, а поэтому в него и надо зачислять – да поскорей – кого угодно, пока не зачислили тебя самого. Этот «класс» все время пополняется. Это – незаменимый горючий материал для бездонной ненасытной печи. Всегда есть что делать. Всем находится работа. Покончив с действительными врагами, не могут жить без врагов мнимых, а потому – сознательно и бессознательно – выдумывают их, объявляют врагами сторонников, защитников социализма, не говоря уже о реальных, а тем более возможных его союзниках. И прежде всего удар наносится по социалистической интеллигенции.
Но САМОЕ ГЛАВНОЕ заключается в том, что когда Платонов писал о «классе остаточной сволочи», когда он видел и предвидел эти страшные явления, никогда он не терял верности идеалам, которым служил с первого дня своей сознательной жизни до последнего, а верность этим идеалам не вела его к замене идеалов идолами, иллюзиями.
И еще об одном важнейшем критерии. Никакие трудности и беды его личной и писательской жизни не заставили его соблазниться элитарным мировоззрением, не породили в нем ни злобы, ни мести. Ни одной из этих ноток нет ни в одном из его произведений... Но вот какая получилась награда: его самого, Платонова, зачислили в «класс остаточной сволочи». Буквально.
У меня есть его фотокарточка – из неопубликованных, подарок вдовы Марии Александровны. Один из самых тяжелых моментов его жизни – как раз 31-й год. Затравленности – нет, а есть огромная боль, печаль, но все равно какой-то удивительный свет. Не волчье, не заячье, а оленье... <...>
Есть единственный путь избежать разочарований – это не питать и не сеять иллюзий. Мир целен в своих противоречиях, а если он, кажется, обманывает нас, то виноват не он, а мы сами, потому что, значит, мы слишком плохо еще его знаем. Не мир обманывает нас, а мы обманываемся на его счет. «Ищи не в селе, а в себе!» Есть такая пословица.<...>
Конечно, необходимо знать настроения людей, их самые интимные намерения, мотивы, конечно, можно и должно об этих настроениях судить и людям, занятым своим профессиональным трудом в различных социальных, партийных и государственных организациях. Но мало кто лучше знает эти настроения, эти мотивы, чем писатели. Они знают то и «подслушивают» то, чего никто и никогда так не «подслушает». Они по-хорошему одержимы этим «подслушиванием», «подглядыванием». И они здесь незаменимы. Они одержимы поисками действительно самых скрытых настроений и мотивов, которые многое решают в судьбах не только отдельных личностей, но и в судьбах народов и стран. И в этом смысле их «показания», добровольные и бескорыстные «показания», зафиксированные в их книгах, – это необходимый «материал» и для политиков. Писатели, к примеру, очень часто предупреждали об Освенцимах (вспомним Кафку), но как редко политики слушали их.
Платонова обвиняли в политической незрелости. Но сейчас мы видим, что мало было людей так глубоко политически и социально зрелых, зорких, как он.
Зато вот Ермилов был «прав» каждую секунду, о чем бы он ни писал. А во вторник он писал прямо противоположное тому, что писал в понедельник, и делал это без всяких объяснений и стеснений. Тоже был противником «самокопания». А каков итог этой «правоты»? Кто ему верил и верит? Он зачислил Достоевского в «авангард реакции», Маяковского объявил «попутчиком», Платонова – «подкулачником». Он яростно выступал против тех, кто не был в данную секунду прав в его, ермиловском смысле. Но кто остался и что осталось в конечном счете?
Вот почему я и хочу сказать еще о наших живых. Можно понять людей, которые признают, что гении и таланты были в прошлом, могут быть и в будущем, но которым очень трудно, невозможно или уж совсем безрадостно признать, что гении и таланты – вот они, рядом, с нами. Наверное, тут срабатывает какое-то особое колесико в механизме сознания: если он гений, если он талант, то я-то кто? Но это, как доказали психологи, социологи, писатели, – верный признак не того, будто человек сей – никто, ничто, а признак лишь того, что он еще не нашел себя, что он не на своем месте. Если нашел себя, если на своем месте, то будешь радоваться успеху и достоинствам другого. Как видим, наука и литература относятся к этому не радующемуся, а пока еще равнодушному или злобствующему человеку несравненно гуманнее, несравненно терпимее, чем он к ним. Они – за него, несмотря на то что он – против них.
Я должен сказать о таком писателе, гениальном писателе нашей страны, как Александр Исаевич Солженицын, о равнодушии к судьбе которого так горько и справедливо говорила на последнем съезде писателей В. Кетлинская. Я могу быть субъективным, а потому сошлюсь еще и на авторитет двух людей, обладающих абсолютным художественным вкусом и слухом, – на С. Я. Маршака и К. И. Чуковского, которые говорили: можно и умирать спокойно, потому что у Толстого и Чехова есть надежный наследник...
А тем людям, тем писателям и критикам, которые вешают на него всевозможные ярлыки, мне хотелось бы предложить: давайте заключим пари. Не надо, не спешите. Давайте поспорим о том, где будет он, Солженицын, через 10–20 лет в истории нашей культуры и где будете вы? Может быть, вы сумеете что-то еще изменить в своей судьбе? А вдруг вы ошибаетесь? Где Платонов и где его хулители?
Я должен сказать и о таком человеке, создавшем по-моему, гениальные книги о Достоевском и Рабле, как М. М. Бахтин. Имя это может быть гордостью любого университета любой страны. А как мы его признаем?
Я хочу сказать и об Эрнсте Неизвестном, уже прославившем наше искусство и нашу страну за рубежом. А что мы о нем знаем? Как помогаем ему?
Я могу перечислить многих, очень многих людей, наших писателей и художников, очень разных, таких, как Можаев, Максимов, Коржавин, Белов, и других. Окуджава написал не только хорошие стихи, но и создал песни, которые вехой войдут в историю нашего самосознания, да, наверное, и в историю нашей музыкальной культуры.
Я говорю обо всем этом потому, что – в память о судьбе Платонова – меня больше всего волнует судьба людей еще живых.
Ничуть не оскудела страна наша ни умом, ни честью, ни совестью. Ни гениями, ни талантами. Еще богаче стала. Вздор это малодушный и снобистский думать, будто оскудела. У нас уже имеется гигантский, ни с чем несравнимый золотой запас современной культуры, но он еще слишком мало введен в оборот – и в национальный, и в мировой.
Ну, а в заключение мне хотелось бы, раздумывая над всеми этими судьбами художников, умерших и еще живущих, еще раз сказать, что «вещество» человека и, конечно, «вещество» художника действительно является самым огнеупорным и самым надежным «веществом». Насколько его, однако, легко искалечить, убить. И насколько его трудно выделать, насколько трудно не помешать, а помочь ему выделаться. Не заметить, погасить – очень легко.
Но, пожалуй, здесь-то я все-таки не прав. Я очень хочу быть неправым здесь. Нет, все же погасить этот свет, убить это «вещество», искромсать его, может быть, тоже – слава богу – очень трудно, а иногда и невозможно.
Платонов еще раз подтвердил и доказал это.
Будем же ему верны, этому убеждению, несмотря ни на что, ни на кого.
Буквально на другой день после моего выступления в ЦДЛ – звонок, чей не помню, кажется, кого-то из моих друзей из Международного отдела ЦК.
– Ты знаешь, что принято решение на горкоме у Гришина исключить тебя из партии? И к тому же парторганизациям низшей инстанции – первичной парторганизации вашего Института и райкому – запрещается обсуждать этот вопрос.
И тут я сказал себе и Ире, чуя последующее: нервов на них я не буду тратить. Если хоть одна нервишка вздрогнет – себе этого не прощу. Дня через два-три – звонок из МК КПК (Комиссии партийного контроля Московского комитета партии). Женский голос:
– Товарищ Карякин? Вам следует явиться в МК КПК.
– Зачем?
– Вам скажут.
– Что за тайна? Я – член партии, и какие тут могут быть тайны? Пока не скажете, я не приду.
– Это по поводу вашей выходки на вечере памяти Платонова.
– Никаких выходок не было, и никаких оснований для вызова я не нахожу. Поэтому не приду.
– Придете. Заставим.
В парткоме Института сказали – обязан явиться.
Помню еще, что сразу после выступления, то ли через день-два один мой друг из международного отдела ЦК сказал:
– Как ты всех нас подвел.
– Чем?
– Ну как ты не понимаешь? Мы же должны теперь тебя защищать. А ты наговорил такого...
Но с меня было достаточно того, что Эрнст Неизвестный, В.А. Каверин, А. Борщаговский и многие другие люди, которых я любил и уважал, напротив, меня поддержали. Было даже написано письмо писателей в мою защиту, письмо, которое организовал покойный Борщаговский.
Тем не менее в КПК Московского горкома я явился. Первый вопрос примерно такой: кто вас надоумил на такое? Понимай: кто за вами стоит? Они всегда думали, что за «таким» обязательно стоит какая-то организация.
– Один человек.
– Назовите.
– Карякин.
– Не увиливайте, а говорите прямо.
– Я все сказал и больше мне с вами говорить не о чем.
Ушел.
Потом последовала серия звонков с приглашением-приказом явиться. Я выдержал долгую паузу, понимая, что дело долгое и надо подготовиться. Мне неловко говорить сейчас об этом просто потому, что и до этого момента, и во время, и после случились дела поважнее моего. И люди говорили похрабрее меня, пожестче, и пострадали побольше. Вызвал меня секретарь Союза писателей Юрий Верченко. Дал прочитать стенограмму моего выступления на вечере. Читая, я матерился. Все там было переврано. Конечно, пословицу про «черного кобеля» они там все наверху отнесли на счет Сталина и самих себя. Но самое смешное выяснилось потом. Гришину, а потом и Брежневу доложили, что Карякин призывал писателей не допустить, чтобы «вещество» (т. е. дерьмо – они так буквально поняли) Сталина вновь внесли в Мавзолей, где покоится «вещество» (т.е. дерьмо) Ленина. Можно себе представить их праведный гнев! Узнал я об этом случайно. В ноябре того же 1968-го попал на день рождения жены моего однокурсника Ивана Фролова, занимавшего тогда высокий пост помощника П.Н. Демичева, секретаря по идеологии. Меня посадили за столом рядом с незнакомым мне человеком.
ФОТО № 53
Первый тост – за именинницу, а второй – Мераба Мамардашвили – совершенно неожиданно – за меня. И вдруг мой сосед говорит:
– Так ты тот самый Карякин?
– В каком смысле «тот самый?»
– Да тот…
– А кто вы такой?
– Я – Мелентьев (министр культуры РСФСР. – Ю.К.). Ну, ты и мужик! Говорят, из сибиряков. Я – тоже. Такое выдержал. Расскажу тебе главный секрет. Знаешь, кто приказал исключить тебя из партии.
– Откуда я могу знать?
– Сам. (Имелся в виду Брежнев. – Ю.К.). Ему доложили, что теперь хотят вернуть «дерьмо» Сталина к «дерьму» Ленина в Мавзолей.
– Если бы я так сказал, то правильно бы сделали, что исключили, хотя бы за стилистику и грубость.
26 мая пригласили меня на заседание горкома партии. Пошел, зная, что меня исключат из партии, но еще раз сказал себе: «Нервов на них не тратить».
За большим столом собрались разные горкомовские секретари и их челядь. Главного – Гришина – не было. Но в ходе заседания я обратил внимание, что все как-то очень старательно говорят, обращаясь в одну сторону – к дверям за занавесом. Оказалось, там сидел и все слушал «сам». Участвовать лично не хотел, но хотел всех своих служак проверить «на вшивость», не даст ли кто слабину.
Осуждали меня гневно все. Но больше всех распалилась секретарь горкома по идеологии Людмила Ивановна Шапошникова.
– Знаете, кто такой Карякин? Он – главный идеолог театра на Таганке. А что он позволяет себе в публичных выступлениях! Таких, как он, надо отправлять в Караганду. Пусть там поработает учителем!
Тут я не выдержал:
– Вы соображаете, что говорите? Учителем работать для вас все равно что кайлом отбивать породу в лагерях. Можно и идейно невыдержанным? А сами-то вы знаете, что о вас говорят рабочие в Москве?
– А что, что могут обо мне говорить рабочие…
– Да то, что вы на своем месте Хрущеву … лизали, а теперь новому начальству лижете.
Главный «идеолог» Москвы пошла красными пятнами и каким-то сдавленным голосом прошипела:
– Товарищи, что он говорит, я всегда с линией партии, я всегда с линией партии.
Тут я понял, что пропал окончательно. Помню, встал, подошел к окну и подумал: сейчас они меня должны просто выкинуть в окно. Что же медлят? Мужиков, что ли, нет никого!
Исключили меня единогласно по двум пунктам:
– за беспрецедентно грубое поведение на горкоме партии;
– за идеологически неверное выступление на вечере памяти Платонова.
Вышел. Очень был зол, но все соображал. Вернулся. Ногой открыл дверь и почти выкрикнул:
– Что же вы формулировку приняли неверную?! Я сначала идеологически неверно выступил, а потом вел себя беспрецедентно грубо… Пункты, пункты своего постановления поменяйте.
Хлопнул дверью и ушел.
Дело с исключением меня из партии, действительно, затянулось надолго. По моему делу назначили специального «партследователя» – некую Галину Ивановну, которая со мной периодически беседовала…
– Вы скрыли от партии, что подписали письмо Якира.
– Не только не подписывал, а отказался подписать. Когда разберетесь, позвоните. А сейчас мне говорить с вами не о чем.
Разобрались. Оказалось, что П. Якир вписал сам мою фамилию. (Опять чистая нечаевщина.)
Снова вызывает (уже в июле).
– У нас предложение: хотите, в любой газете напечатаем вашу статью против Солженицына? И тогда вас восстановят, сами понимаете…
– Ну, это уж я никак не могу. Не смею сказать, что мы друзья, но Александр Исаевич мне очень близкий человек. Это большой писатель. Я о нем писал и мнения своего не изменю.
– Ну, тогда напишите о Чехословакии, против чешских ревизионистов.
– На это согласен.
– Да? Когда?
– Ну, года через два-три. Тут вот какая закавыка. Я много лет занимаюсь Достоевским, и чем больше читаю, тем меньше его понимаю. А вот жена у меня занимается Латинской Америкой, а там 22 страны. И я над ней посмеиваюсь: я Достоевского не понимаю, а она сразу двадцать стран знает. А мне, чтобы узнать одну страну – Чехословакию, – надо долго разбираться.
– Вы что, издеваетесь, смеетесь?
– Нет, это вы издеваетесь. Как я могу написать статью о стране, которую я не знаю?
В общем, партследовательница попыталась придумать еще какие-то крючки для меня. Но все срывалось. От меня отстали.
К тому же в Институте международного рабочего движения, где я работал, руководители парткома не сумели (а в общем-то и не хотели) подготовить все необходимые документы. Уперся председатель профкома Владимир Илюшенко: наотрез отказался подписывать документы о моем увольнении с работы. «Тройка» не сработала.
И вдруг неожиданно меня вызвали к самому председателю Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС Арвиду Яновичу Пельше. Только потом узнал причину. Мой друг Анатолий Черняев, работавший в группе консультантов ЦК, оказавшись однажды в одном самолете с Пельше, попросил за меня, поручившись за мою честность и порядочность. Да к тому же за меня заступился председатель Комиссии народного контроля ЦК Кованов, с которым мы сдружились в Польше в 1964 году.
Пошел я на встречу с Пельше с некоторым беспокойством, вызванным очень низменным обстоятельством. Накануне много пил, как и вообще в то лето. Опасался, что при разговоре главный партийный кадровик не сможет не почувствовать сильный запах перегара. Потому во время разговора все время старался дышать в сторону. Но тут вдруг учуял знакомый «перегар», идущий от моего собеседника. Это как-то упростило дело. Стало возможным не то что говорить на равных, но вдруг почувствовал, что скрывать мне нечего, что я во всем прав, и пусть знает.
Встреча с Пельше прошла идеально.
– Вот вы дружите с Солженицыным. А не знаете, каков он на самом деле. А мы знаем.
Я в ответ после долгой паузы:
– Согласен с вами: исключить Карякина из партии за то, что вы все знали о Солженицыне, а он не знал.
– Ну и хитрец же вы.
В ноябре того же года мой вопрос решался на заседании КПК ЦК. Опять все члены комиссии выступали с гневным осуждением, требовали подтвердить решение горкома партии и исключить Карякина. И тут слово взял Пельше и спокойно, обведя взглядом всех собравшихся, сказал: «Я вот тут послушал вас. Дело посмотрел, с Карякиным поговорил. Думаю, следует восстановить его в партии. Он человек честный». И тут же все как один признали истинно верным только что предложенное решение председателя КПК и проголосовали за мое восстановление в партии. Я, правда, уже в этом не участвовал. Все бумаги автоматически были спущены в райком и в первичную парторганизацию. А еще через некоторое время я познакомился и с первичными «информаторами» о моем выступлении. Сижу как-то в ресторане ЦДЛ. Вдруг с соседнего стола приносят бутылку. Официант показывает на пославших ее. Я, естественно, беру бутылку и иду к ним. Никого не знаю. Говорю: ребята, я вас не знаю, за что прислали бутылку, тоже не понимаю.
– Вы нас, Юрий Федорович, простите, но у нас работа такая. Мы записывали ваше выступление на магнитофон…
– А, ну так бутылкой не отделаетесь. Дайте мне запись. Не бойтесь, не продам.
Переглянулись.
– Будет.
И действительно, подарили мне магнитофонную копию. Система уже начинала давать сильные сбои. И не только наверху. Главное – внизу. Даже среди оперативников встречались люди, которым самим уже было тошно служить.
70-е… УШЕЛ В ДОСТОЕВСКОГО
Нам был страшный досуг учиться.
А. Герцен
Хрущевская «оттепель» кончилась. «Пражская весна» 1968 завершилась горячим кровавым августом: советские танки вошли в Прагу. Александра Дубчека убрали. Очень многих моих друзей в Чехословакии посадили, приговорили к принудительным работам. Образованный, немного наивный и милейший человек Славик (представитель Чешской компартии в журнале «Проблемы мира») стал асфальтировать дороги. Столько помогавший нам с Ирой добряк Прохазка (служба безопасности) вообще сгинул, никто о нем ничего не знал. Иржи Зузанек, наш с Лёней Пажитновым большой друг (вел в журнале все материалы по культуре), вместе со своей русской женой Тамарой эмигрировал сначала во Францию, потом в Канаду. Леночка Рюрикова (дочь Бориса Сергеевича), тоже работавшая в журнале и вышедшая вместе с Володей Лукиным и Мишей Поляковым на улицы Праги, протестуя против ввода войск и убийства мирных жителей столицы, осталась в Чехословакии (благо имела формальное право как жена чеха). Ушла «в подполье». Лукина и Полякова вместе с их семьями в 24 часа выслали на родину.
В Москве после разгрома чешской демократической революции уже не стеснялись расправляться с писателями-вольнодумцами, потом и с правозащитниками. Начиналось гнилое время. Время так называемого «застоя». Для многих думающих людей из моего поколения оно стало временем учебы, временем «ликбеза», временем накопления сил.
Меня, после вмешательства А.Я. Пельше, восстановили в партии. Но я так и не удосужился пойти в райком партии за документами – в конце концов их прислали на Институт международного рабочего движения АН СССР, в котором я работал. Наш институт – надо отдать должное его директору Тимуру Тимофееву – на время стал пристанищем для многих гонимых властями: философы Эрик Соловьев, Мераб Мамардашвили, Николай Новиков, Пиама Гайденко, Юлий Оганесян и другие.
В академическом институте я получил значительную свободу: не было газетной и журнальной гонки, никто на меня не давил. Занимался чем хотел. И целиком погрузился в Достоевского. Вернулся к своей первой статье о Достоевском. Я писал ее прежде всего как статью о «Бесах», о «казарменном коммунизме», что в начале 60-х звучало очень смело. Вот почему статья тогда, что называется, прогремела. Но у меня самого возникло, а потом усилилось ощущение... непойманного жулика. Все казалось, что меня вот-вот поймают. Чувствовал себя фальшивой монетой, которую все принимают за настоящую. Мучился довольно долго, пока наконец не понял, что там было не то. Я уже упоминал, что подход к Достоевскому в те годы у меня была таким, какой принят для исследования философа или социолога. То есть я читаю, извлекаю цитату, комментирую, интерпретирую...
Я миновал в своих интерпретациях художественность. Но поскольку идеи писателя интерпретировались мною как антисталинские, прогрессистские, то никто не заметил... или по крайней мере никто не сказал, что методология-то у меня та же самая, что и у моих противников. Только они эти цитаты надергивали «за», а я – «против». Короче говоря, я вновь засел за ту же статью, чтобы понять, чтo я там напорол. И понял, что статья моя – чудовищная. Без преувеличений. Я оказался хоть и в высшем смысле слова, а все равно спекулянт. И главное, это была статья о Достоевском в целом, хотя всего Достоевского я на тот момент, конечно, не прочел, то есть не прочел хотя бы раз десять.
Это была статья, на которую я не имел права: ни морального, ни научного, ни человеческого. Я захватил это право.
И я решил найти в Достоевском такую задачу, которую я бы решил сам. Я сказал себе: ладонью не продавлю, а пальцем – быть может.
Когда-то меня поразила одна вещь. Эйнштейн создал свою теорию, решая конкретную задачу. Я инстинктивно почувствовал, что если разберусь с самосознанием одного человека (героя), то одновременно пойму и вещи значительно более общие. Получился такой как бы дальний прицел, хотя понял я это не сразу. Начисто отказавшись от политико-социологического подхода, стал вновь читать и перечитывать романы, дневники писателя, черновики. Очень помог в работе выход в свет Полного собрания сочинений Достоевского, подготовленного в Пушкинском доме под руководством Фридлендера. В тихой кабинетной работе (бывало, неделями не выходил из дома), именно без конца читая и перечитывая и размышляя, стал расчищать свои мозги от многолетнего идеологического хлама.
У Маркса, которого и теперь читают извращенно, меня зацепила одна фраза. Он, формулируя свое открытие истмата, записал: «Точно так же, как о человеке нельзя судить по тому, что он говорит о себе, так и об эпохе общественного переворота нельзя судить по ее самосознанию». Фраза эта в меня запала. Не хватало только словечка «самообман»... И вдруг я подумал, что эпоха общественного переворота для совершения непонятного ей действия, не говоря уж о понятном, нуждается в колоссальном самообмане, который мобилизует ее силы, но за который потом придется платить. Она должна приумножить свои силы, способности, чтобы совершить... может быть, даже не то, что хотела.
Озлившись на собственную бездарность, принялся за работу
Что такое талант? Осмелюсь дать такое мое определение – это ненависть к собственной бездарности и умение ее вытравлять. Бездарность же – это бесчестность и бессовестность прежде всего по отношению к самому себе. Мы должны понять, что собственная бездарность – это бацилла, от которой можно избавиться только одним способом: доведя себя до предельного накала. Бездарность, так же как настоящие бациллы, погибает только в точке кипения. При 99 ° бациллы еще живут, а при 100° – их уже нет. Я убежден, что три четверти людей не доводят свой талант «до ума». Их не хватает на последний рывок. Им не хватает решимости подохнуть на этом последнем рывке, на последних десятых последнего градуса, во имя того, чтобы чего-то достигнуть. Довести себя до 99°, в общем, несложно. Вдохновение, бог ли в помощь, еще ли что-то... Однако последняя десятая градуса – это работа страшная!
Но, когда ты вдруг осознаешь это, она становится еще и страшно интересной. Я бы сказал даже: гибельно интересной. Происходит действительно чудо. Ты просто находишь вдруг три-четыре невидимых стороннему взгляду штриха, и в общую картину входит новый свет.
С детства нас воспитывали на формуле: «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...» Более мышеловочной, самодовольной, не способной к саморазвитию формулы, при всей ее внешней заразительности, я не знаю. Скажем, у меня напечатана работа, в которую я вложил месяцы, годы. Она ушла от меня. Мне хочется бежать за ней, исправлять, исправлять, исправлять… Таков каждый наш день. Если уходит это главное ощущение – исправлять, улучшать, совершенствовать, – это конец. Отсутствие стыда за прожитое – это конец нас как личностей. Так называемая «чистая совесть» – это чаще всего просто плохая память.
Я убежден, что, если бы любой человек лучше построил свою работу (работа – модель жизни), он бы и сам стал лучше. Микеланджело в свои 83 года, лежа уже на смертном одре, говорил (цитирую по памяти): «Я раскаиваюсь в двух вещах. Я все-таки знал, что такое Добро и что такое Зло, и большей частью я все-таки не делал Добро. И второе... я только сейчас начал постигать азбуку своего искусства».
Я знал эту фразу очень давно, и она мне все-таки казалась... блестящей, но фразой. Понял я ее только тогда, когда стал наконец постигать азбуку собственной работы. К тому же оказалось, что не меньше усилий, чем на саму работу, нужно на то, чтобы суметь оторваться от настоящего и представить, как написанное будет звучать через десять-двадцать лет. Не придется ли брать свои слова обратно, скрывать их истинный смысл...
В эти годы «кабинетной жизни» я просмотрел все написанное, начиная примерно с 1963 года. Огорчился, конечно, страшно, но и порадовался – вранья нет. Ошибался много, но не лгал. А ведь раньше отдал вранью значительную дань и придумал даже термин такой: «плата за вход». Не будучи циником по натуре и, кажется, с годами не поддавшись в этой жизни, которая умеет превращать людей в циников, я тем не менее не только придумал такую формулу, но и активно пользовался ею.
Все очень просто. Мне нужно протащить мысль. Ради нее я готов был наворотить вокруг горы банальностей – того, к чему, мягко говоря, не лежит душа. И тут-то у меня случилась «сшибка».
Получалось, что днем мне приходилось работать на зарплату, а ночью – на себя. Но я же сообщающийся сосуд! Поэтому в дневную работу попадали мои затаенные мысли, и на этой почве постоянно возникали скандалы в журнале («Проблемы мира и социализма»), хотя журнал и был прогрессивным по тем временам. Но и ночью из дневной официальщины ко мне капало черт знает что!.. Получались сплошь несуразности. Понял, что больше уже никогда не смогу служить и писать по-старому. Не смогу, потому что критика и публицистика, которыми я уже занимался, в идеале должны концентрировать в себе одновременно энергию мысли и чувства, вызывая тем самым художественный эффект мобилизации мысли в читателе. Мысль в тексте при этом ни на секунду не может быть оторвана от человеческого переживания. Здесь нельзя врать ни на волосок. Микроб лжи, неточности мгновенно убьет все. Любые сделки («право на вход») – губительны. Невозможно лгать для того, чтоб высказать заветную мысль. Нужно знать совершенно точно, что, протаскивая ее, обставляя ее со всех сторон официальными «взвейся» и «развейся», мы оскверняем ее необратимо. Идею, как любимую женщину, дочь, посылаем в бардак. Стыдно...
Конечно, в нашем поколении ложь была настолько тотальной, что, когда в конце 50-х – начале 60-х нам показали только кусочки правды, мы были ослеплены. Дезориентированы. Когда же я вижу ложь в поколении, следующем за нашим, то воспринимаю это как цинизм. У нас в ней была все же какая-то вынужденность. У людей нового поколения – нет. Значит, не может быть оправданий, и не должно быть проблемы вранья. Большинство сейчас могут писать так, как чувствуют. Безо всяких внутренних цензоров.
Достоевский «обрекал» на правду и только на правду. Я написал несколько статей, которые должны были выйти в книжке «Перечитывая Достоевского» в научно-популярной серии Академии наук. Издать тогда книгу мне не удалось: возможно, осторожные и консервативные академические издатели знали, что числюсь в «черном списке». Осталась только благожелательная рецензия Д.С. Лихачева, написанная в 1971 году. Я тогда еще не был лично знаком с Дмитрием Сергеевичем и даже не знаю, какими судьбами попала моя несостоявшаяся первая книжка о Достоевском в его руки. Вот эта рецензия:
«Небольшая книга Юрия Федоровича Карякина «Перечитывая Достоевского», в основном посвященная «Преступлению и наказанию», – одна из самых интересных книг о Достоевском, которую мне довелось читать. Она очень насыщена мыслями, тонко анализирует содержание «Преступления и наказания», превосходно написана. В ней нет анализа стиля, языка произведения, что почти обязательно для работ литературоведческого характера, но анализ общественно-философского содержания романа настолько ярок, что это отсутствие почти не замечаешь. Я думаю, что восполнения его и не надо требовать от автора. Он дает в своей книге что может, а «может» он и без того много.
Я бы очень хотел, чтобы книга Ю.Ф. Карякина вышла в нашей серии. Очень жаль, что она уже не успеет к юбилею Достоевского, но так как к юбилею выйдет не так много работ о Достоевском, то не будет поздно выпустить ее и после юбилея.
Очень прошу сообщить мне – когда на заседании редколлегии будет обсуждаться рукопись Ю.Ф. Карякина, чтобы я мог приехать и выступить с обоснованием необходимости ее издания».
Через несколько лет, в 1976 году удалось издать небольшую и очень дорогую мне книжку «Самообман Раскольникова» в издательстве «Художественная литература». Ее перевели на английский, немецкий, французский и венгерский языки и издали в издательстве АПН в 1979 году.
Из дневника 1966
Открыли и у нас, наконец, «Институт достоевскологии». С опозданием на 20 лет, когда yжe надо десять таких институтов иметь. Перегрузка страшная и каша везде. Заместитель директора по прогрессивным идеям в творчестве Достоевского переругался с замом по «достоевщине», каждый норовит себе больше ухватить. В отделе «Братьев Карамазовых» – сектора по каждой главе, а кроме того, отдельно – сектора Алеши, Ивана и Митеньки, А секторов Смердякова и самого Федора Павловича – нет. Завкадрами говорит: «Установлено, по анкете, что Смердяков – незаконный, а Фёдор Павлович – не брат, а отец, И ставок на их сектор не допущу».
Я долго колебался между отделами «Скверный анекдот» и «Сон смешного человека». Подал документы все-таки в «Сон», в сектор по 6-му параграфу (это заключение). Хочу взять себе работу по изучению последней реплики «Сна» – «И пойду! И пойду!» Об этом нет не только ни одной монографии, но даже статьи. Уверен, что над этими словами и не задумывался никто. «Специалисты»!
Дня через три конкурс. По нашему сектору всего два человек на место.
…Так и предчувствовал. В институт не приняли. Неизвестного, конечно, припомнили. «Вы, мол, пока три года к нему ходили, да писали, – всю квалификацию по «Сну» потеряли, а в наше время наука движется вперед с гигантскими скоростями...» В сущности, это верно. Но обидно все-таки. Вместо меня взяли одного дилетанта– пройдоху. У него оказалось больше публикаций. А почему? Придумал отмечать юбилеи «Сна» не по круглым датам, а каждый год. И не только в день выхода в свет, но и в дни, когда Достоевский начал и кончил рукопись рассказа! Ну, естественно, кто докладчик на юбилейных cecсиях? Он! А потом эти доклады рассует по газетам да журналам. Вот и публикации...
А в общем, придется мне новую область подыскать... И найду! И найду!
С ДОСТОЕВСКИМ В ШКОЛУ…
БЕЗ ПУШКИНА НЕЛЬЗЯ
Я уже упоминал, что в школе, кажется в восьмом классе, ребята стали «проходить» Достоевского – «Преступление и наказание». Однажды моя знакомая преподавательница литературы Вера М. предложила мне прийти к ней на урок по Достоевскому. Она прочитала мою книжку «Самообман Раскольникова», и восторгам ее не было конца. Обычная школа на окраине Москвы. Пришел. Ребята понравились. И вдруг решил: проведу-ка я сам все уроки по Достоевскому.
Вера предоставила мне карт-бланш, и я договорился с ребятами, что итогом нашей работы станут сочинения, которые я буду судить только по одному критерию – правда и искренность каждого. А что касается орфографических ошибок и всяких там запятых – меня это не очень интересует. Если уж не будет совсем безобразных ляпов – прощу.
Работали мы с упоением. Я много рассказывал ребятам, слушал их. Сочинения получились самые разные. Один мальчишка написал: «Раскольников убил старуху-процентщицу и правильно сделал. Жаль только, что попался». Зато в другом сочинении девочка писала: «Нет и не может быть «крови по совести». Кровь вообще всегда против совести».
Именно там, в школе (а я вел уроки потом почти 10 лет), я вдруг начал понимать, что без «пушкинской прививки» подростку подходить к Достоевскому опасно, порой даже смертельно опасно. Страшно и сегодня вспоминать о трагедии, произошедшей в семье одного моего друга. Его сын лет в 15 залпом прочитал всего Достоевского, а потом взял да и повесился в шкафу.
Да что говорить, я и сам, «прилепившись», что называется, на всю жизнь к Достоевскому, время от времени бежал от «угрюмого имени Достоевского» к «веселому имени Пушкин». Писал статьи, делал телевизионные передачи в те мрачные времена 70-х годов, когда только «учебный» канал давал возможность говорить с детьми, юношами и вообще с людьми человеческим языком.
Входя в мир, русский человек, вне зависимости от своего социального происхождения или образования, встречается с Пушкиным так же, как с солнцем, с голубым небом, с клейкими весенними листочками, как с воздухом, которым дышит. Пушкин входит в него сразу, осознанно или неосознанно, да большей частью просто незаметно. И кажется ему, что Пушкин был – всегда. И только лишь потом, по мере осознания самого себя и судьбы России, начинаешь вдруг понимать, что нет и быть не могло твоей души и твоего духа без незамечаемого, как воздух и кислород, Пушкина.
Россия без Пушкина? Нет России.
Россия без Пушкина все равно что европейский мир без Христа. Вся европейская история за две тысячи лет сосредоточилась в нем, в Христе, выразилась всеми своими гранями, утоляя чудесную жажду взаимопонимания. Пушкин – лучший дар Бога для России, напоминание ей о том, какой могла бы она стать…
Так и получилось, что школа вытолкнула меня на Пушкина. Начал с уроков по Достоевскому и параллельно организовал занятия по Пушкину. Началось все с пушкинского Лицея.
В 73-м году почти все наши академики «единодушно осудили» А. Д. Сахарова. Было очень тоскливо, и я подумал: ну хорошо, мы люди тертые, мы понимаем, как все это делается, ну а подростки, которые знали, что в оны дни люди отказывались от звания академика, когда им предлагали соучаствовать в деле некрасивом?.. А тут – какой наглядный урок преподают ребятам: высшая совокупная мысль (Академия наук!) судит человека за мысль и даже за право на свою мысль.
Так и случилось. На одном из уроков ребята сами стали задавать мне эти вопросы: «Как же так, все академики – против Сахарова? А вы говорили, что когда-то академики Чехов и Бунин вышли из Академии российской словесности, когда туда не выбрали Горького?» И я вдруг вспомнил старый любимый факт: как в сентябре 1825 года Александр Горчаков («Князь», «Франт», «первый ученик», самый «политичный», самый «официальный» из лицеистов), секретарь русского посольства в Лондоне, будущий канцлер России, встречается с опальным Пушкиным в селе Лямоново. А 15 декабря того же 1825-го, рано утром, приезжает к Ивану Пущину, привозит ему заграничный паспорт и уговаривает бежать. Пущин наотрез отказывается, решив разделить судьбу друзей. И разделил, проведя в тюрьме и на каторге тридцать один год. Я вспомнил еще, как даже Павел Мясоедов («Мясожоров»), самый незаметный, скромный из лицеистов, не побоялся написать Пущину на каторгу письмо со словами участия, чем несказанно тронул Ивана Ивановича. А еще вспомнился рассказ о том, как на исходе уже наших 20-х годов собрались самые последние лицеисты (какое же это было поколение?), собрались, конечно, 19 октября, и... были все объявлены «контрреволюционной организацией» и арестованы.
И Лицей пушкинский стал «пепелищем», и эти «отеческие гробы» были поруганы... Вспомнил я все это, и захотелось сделать для ребят что-то очень хорошее, а что может быть лучше самого Лицея? Идеал – вместо безобразия, красота – вместо некрасивости, причем красота не абстрактная, а воплощенная.
Так родилась у меня идея сделать телепередачу для школьников о пушкинском Лицее с внутренним эпиграфом о достоинстве, о непредательстве. У меня уже был опыт работы с прекрасным режиссером третьего «учебного» канала Андреем Торстенсеном. Я пошел к Олегу Ефремову: «Давай сделаем пушкинский «Лицей», ты и Валерий Золотухин. Представляешь: 1812-й, 19 октября, открытие Лицея, война Отечественная, а они, лицеисты, играют в снежки.
А потом:
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…
А потом – как часто, годами, они повторяли: «А помнишь?.. А помнишь?» Как в снежки воспоминаний играли…»
Уговаривать его долго не пришлось: идея юношеской дружбы, братства, непредательства – ему, прирожденному лидеру, кумиру молодежи и не только молодежи, была близка. Помогло и наше многолетнее знакомство. Началось оно давно, с конца 60-х, когда рождался «Современник» и когда я приходил на ночные репетиции пьесы «Случай в Виши». Всегда замечал сидевшего в сторонке Александра Исаевича Солженицына, который тогда присматривался к театру и мечтал уже о постановке в нем своей пьесы «Олень и шалашовка».
Итак, Олег согласился. Валера Золотухин (с ним мы сдружились на Таганке) поддержал идею. Началась работа.
Мне хотелось, чтобы передача шла под песню Булата Окуджавы «Союз друзей» («Поднявший меч на наш союз...»). Не разрешили.
Тогда я встретился с Юлием Кимом, прочел ему композицию, мы поговорили об А. Д. Сахарове. Юлик сразу согласился написать. Родилась его прекрасная песня «19 октября» ( музыка Владимира Дашкевича). Вот отрывок из песни:
...Все бы жить, как в оны дни,
Все бы жить – легко и смело,
Не высчитывать предела
Для бесстрашья и любви.
И, подобно лицеистам,
Собираться у огня
В октябре багрянолистом
Девятнадцатого дня.
Как мечталось в оны дни:
Все объяты новым знаньем.
Все готовы к испытаньям –
Да и будут ли они?
Что ж загадывать? Нет нужды:
Может, будут, может, нет,
Но когда-то с нашей дружбы
Главный спросится ответ.
И судьба свое возьмет,
По-ямщицки лихо свистнет,
Все по-своему расчислит,
Не узнаешь наперед.
Грянет бешеная вьюга,
Захохочет серый мрак,
И – спасти захочешь друга,
Да не выдумаешь – как...
Эту песню тоже не разрешили.
Тем не менее «Лицей» шел на телевидении лет семь, а потом был снят, так как одному большому начальнику, кажется Ильичеву, не понравилось то, как я пишу о... Достоевском. На телевидении это недовольство поняли как приказ закрыть все мои передачи («Лицей», «Преступление и наказание», «Моцарт и Сальери»).
К счастью, журнал «Юность» в 1974 году в 6-м номере напечатал сценарий передачи «Лицей, который не кончается…». Две другие телевизионные работы исчезли бесследно.
Прошло много лет. Как-то, беседуя с А. Д. Сахаровым, я вспомнил эту историю, рассказал ему, и вдруг оказалось, что песня Ю. Кима – одна из самых его любимых...
А еще, когда делая телепередачу о Лицее, я мечтал о том, чтобы 19 октября светло и грустно отмечалось в наших школах. Эта мечта чуть-чуть сбылась: я знаю несколько школ (в двух даже бывал), где и в самом деле этот день вошел в душу ребят.
Теперь же мечтаю о том, чтобы написана была такая книга о пушкинском выпуске Лицея, свободная, вдохновенная книга, которая давала бы ребятам нашим духовный заряд на всю жизнь, и чтобы сделалась она нашей фамильной книгой.
Кстати, пушкинский выпуск Лицея был, может быть, самым плодоносным вообще в истории школ (и не только русских). Тут тоже какая-то тайна, которую мы до сих пор не разгадали. Не ее ли отчасти имел в виду Пушкин, когда писал: «Говорят, что несчастие – хорошая школа: может быть. Но счастие есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному...»
Царскосельский лицей – «прецедент» абсолютно немыслимый. Как в крепостнической и самодержавной России возник этот островок свободы! В силу каких случайных причин получилось вдруг это абсолютно немыслимое чудо?
Что такое гений?
Гений – это нежинский огурец. Знаете ли вы, что такое нежинский огурец? Где-то на Украине среди лесов и равнин есть такой кусочек земли, где подземные воды текут как-то особенно, где случилось немыслимое сочетание почвы, воздуха и воды, повторить которое невозможно. Так вот именно там, и только там, и растут эти необыкновенные нежинские огурцы.
Вот нечто подобное произошло в Царскосельском лицее. На маленьком квадратике земли и в очень короткий срок был собран небывалый духовный урожай России. Пушкин, Дельвиг, Пущин, Горчаков, Кюхля…
Всем навигаторам и реформаторам просвещения стоило бы задуматься над этим.
Как, почему возродилось, окрепло и передалось по наследству одно из самых забытых и самоспасающих чувств – чувство дружбы, чувство непредательства?
Есть все-таки какое-то чувство родства между пушкинскими лицеистами и нами, есть, несмотря на эпохи, разделяющие нас, есть, несмотря на всю суетность, заставляющую не узнавать самое родное, есть, несмотря ни на что.
Тынянов писал: «Была Арина, и был Лицей. Не кончался».
Пушкин без Лицея, без Дельвига, «Кюхли»... – немыслимо. Для кого еще из наших художников явилось такое братство столь мощным истоком и беспрерывной темой творчества? И кто не мечтал быть лицеистом? Кто не завидовал им самой доброй завистью? Лицей – это и есть прежде всего образ полнокровной и, главное, одухотворенной юности. Тут щедрость, щедрость – от богатства душевного. Тут святая, чисто юношеская надежда, не надежда, вернее, а потребность отдать, а не взять, поделиться, а не утаить. Тут и безоглядное озорство – от избытка сил. Тут первичная прививка свободы и чести, совести и мужества. Тут первоначальный запас идеалов и верность идеалам... В конечном счете тут культура, та культура, без которой нет достоинства, нет «самостоянья» человека, без которой трудно или невозможно ориентироваться в мире этом, зато легко потеряться – потерять себя в нем, запутаться.
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
[На них основано от века,
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.]
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как <...> пустыня
И как алтарь без божества.
«Пушкин – это наше все», – сказал Достоевский. И дело далеко не просто в поэзии, в литературе, в языке русском: как Лицей Пушкину, так и Пушкин России задал духовные ориентиры, задал – на всю жизнь.
ДОСТОЕВСКИЙ ПРИВЕЛ МЕНЯ В ТЕАТР
В конце 60-х – середине 70-х дни и ночи проводил я в Театре на Таганке. Это была для меня великолепная школа. Театр на Таганке дал мне много, очень много, несравненно больше, чем я ему. Впрочем, история это довольно длинная.
Вернувшись из Праги в Москву в 1965 году, я почти случайно попал на Таганку. Кажется, привел меня туда Камил Икрамов.
«Добрый человек из Сезуана» Брехта – дипломный спектакль, первая режиссерская работа Юрия Любимова, положившая начало его театру. После скучных, замшелых спектаклей старого МХАТа был потрясен. Актеры – молодые, дерзкие – завораживают и увлекают зал. Театральная стилистика – абсолютно новаторская. Улица, простой человек со своими страстями ворвались на сцену. В те времена я был настолько далек от театрального мира Москвы, что никого не знал из тех, кого увидел на сцене. Даже никогда не слышал Высоцкого. По ходу спектакля я делал в своей книжечке заметки. Была у меня многолетняя привычка носить в кармане маленькие тетрадки, из которых потом выросли мои дневники. А Юрию Петровичу, видимо, сказали, что в первом ряду сидит спецкор «Правды» и что-то постоянно записывает.
«Ну вот, еще один стукач пришел», – решил Петрович, уже привыкший к бесконечным стычкам с властями. После спектакля пригласил к себе в кабинет – поговорить! А разговор-то вышел замечательный. Раскусил он меня сразу, был уже тертый калач, умен и с богатой интуицией. Да и мне скрывать было нечего. Какой я спецкор «Правды»! Просто вышибли из Праги, а Алексей Матвеевич Румянцев приютил и обогрел. А как заговорили о Солженицыне, обрадовался Любимов, что я – автор той статьи, которую читали и у них в театре. Конечно, немножко выпили. Тут появился Давид Самойлов, автор знаменитых зонгов к спектаклю (еще одно потрясение). Ну и начался привычный русский разговор о поэзии, литературе, театре, о власти и «послушном ей народе» – словом, обо всем не свете…
Юрий Петрович пригласил меня на репетиции. Я зачастил в театр, который стал вторым домом. Узнал и потом близко подружился с театральным художником Давидом Боровским, композитором Эдисоном Денисовым. Уже в доме у Любимова, где Люся Целиковская обычно широко и щедро принимала гостей, узнал Николая Робертовича Эрдмана.
Со временем я стал членом Художественного совета театра. Каждый спектакль после генеральной горячо обсуждали. Знали, что все идет под запись и потом ляжет на стол курирующего идеолога из горкома партии, и потому заранее ставили заслоны против партийной критики. Каждый спектакль проходил с боем. Самые лучшие, как, например, «Живой» Можаева, запрещались «навсегда». Пока это «навсегда» не кончилось вместе с той властью, что так долго «курировала» Таганку.
Как-то раз Юрий Петрович предложил мне поставить спектакль по Достоевскому.
– Как это – по Достоевскому? Что, ВЕСЬ ДОСТОЕВСКИЙ сразу?
– Вот именно. А почему бы и нет?
Поясню. В те годы Любимов увлекался постановками, посвященными какому-то одному писателю или поэту. Был у него спектакль «МАЯКОВСКИЙ», удачный, шел долго. Потом – «ГОГОЛЬ», который, на мой взгляд, не получился. Хотя отдельные сцены и актерские работы (Гоголей, как и Маяковских, на сцене было много) оказались очень удачными.
Долго я мучился, размышлял, что-то придумывал. Но потом пришел сдаваться. Откровенно сказал Любимову: «Не могу». И вместо «Всего Достоевского» сделал инсценировку «Преступления и наказания». Спектакль шел долго, позже с Любимовым (когда тот остался в Англии и был лишен советского гражданства) объехал всю Европу. Вернулся вместе с Любимовым на сцену Таганки и шел там до недавнего времени.
ФОТО 06
…Репетировали «Преступление и наказание» на Таганке с осени 1977 года. Очень хорошо работал молодой актер театра Саша Трофимов (Раскольников), рядом с ним неожиданно для всех в роли Сонечки Мармеладовой прекрасно репетировала недавно пришедшая в театр Селютина. Юрий Петрович, как всегда, фонтанировал. Каждая репетиция была, по крайней мере для меня, и трудным уроком, и праздником. Но не было Свидригайлова. Его должен был играть Володя Высоцкий, а он, пренебрегая театральной дисциплиной, что ему порой было свойственно, задержался где-то в загранке с Мариной Влади, то ли во Франции, то ли в Америке. В театре ходили слухи, что из театра он уходит. Мне было очень неспокойно.
Но вот он появился и сказал мне, что действительно собирается уходить из театра. О причинах я говорить не хочу. Я перед ним чуть на колени не встал, упрашивая: «Останься… сделай Свидригайлова». Мне повезло: у него было одно спасительное для меня качество – соревнование с самим собой, азарт. Не знаю, кто или что тому причиной, но в конце концов этот азарт сработал. У него возникла потребность даже не то чтоб сыграть, нет – понять, раскусить еще и этот орешек.
ФОТО 02
В спектакль он вошел не сразу. Три-четыре репетиции, у него ничего не получается. Вся идея спектакля заключена в том, что в дуэли Раскольников–Свидригайлов они должны быть вопиюще неравноправны. Потому что... Ну, что делать льву с котенком? Поначалу же Саша Трофимов настолько вошел в роль, что просто забивал Володю. Мы сидели в темном зале, я что-то вякал о философском смысле дуэли... а у них ничего не выходило. Вдруг Любимов вскакивает с кресла и разъяренно кричит Высоцкому: «Да не слушай ты этого Карякина с его философией! Ты представь себе, что это не Раскольников, а мерзавец из Министерства культуры не пускает тебя в Париж!» Я настолько обалдел от такого гениального кощунства, что замолк. Но в предчувствии чего-то. И вот тут произошло... «Сейчас, – сказал Володя, – сейчас, сейчас, Юрий Петрович». Походил, походил. И вдруг началось...
Структура спектакля была схожа с планетарной системой, в центре которой существовал Раскольников, а вокруг него уже вращалось все остальное. Что бы ни происходило на сцене – все шло с оглядкой на него. А тут вдруг у нас на глазах началось крушение прежнего миропорядка, все закрутилось вокруг Володи. Произошел слом планетарной системы, и минуту-две все, как завороженные, смотрели на это. И вдруг Саша – могучий Саша, лев! – почти детским голосом промяукал: «Я так не могу, Юрий Петрович...» А мы все хором завопили: «Да так и надо!»
ФОТО 08
В перерыве между репетициями вышли на улицу покурить. Я радостно говорю Володе полушуткой: «Слышь, Володь, ничего не понимаю, как ты так быстро врос в роль?» Он помолчал и ответил неожиданно серьезно: «В каждом человеке, кого бы ты ни играл, нужно найти его самое больное место, найти его боль. И играть эту боль. Все остальное – над болью, скрывает ее. Но правда только там, где прорывается боль...»
Спектакль получился. Володя из театра не ушел. Его Свидригайлов в сцене с гитарой останется в истории театра. Но играть ему оставалось недолго.
Почти в то же время я сделал инсценировку двух небольших повестей Достоевского, «Записки из подполья» и «Сон смешного человека», для театра «Современник». Спектакль в постановке Валерия Фокина (назывался он «И пойду! И пойду!») шел довольно долго в малом зале «Современника».
Принес-то я инсценировку, думая, что знаю-понимаю Достоевского. Как я был наказан и награжден за то, что так ошибся.
Валерий Фокин сразу поставил меня в тупик: «Юрий Федорович, я попросил бы вас на репетиции не приходить. Вы свое дело сделали. Теперь я буду делать свое. Я не вмешивался в вашу работу, хочу того же и с моей. А когда закончу, будете судить как вам угодно. Иначе я не могу». Это был ультиматум. Коса нашла на камень. Но какая-то внутренняя убежденность Валерия заставила меня сдаться, хотя и не сразу. Галина Волчек сказала: «Он у нас такой, ничего не поделаешь…»
Никогда не забуду, как работал Костя Райкин над ролью Подпольного. Он приходил ко мне, в мою маленькую комнатку в доме на Перекопской, садился в углу и вполголоса, кусая ногти, говорил, шептал, кричал, бормотал (роль он знал наизусть, конечно). Иногда прерывал меня (я в это время что-то свое выстукивал на машинке) какими-то вопросами, а мне было страшно и прекрасно смотреть на него, настолько он, не щадя себя, преображался. Казалось, сам Подпольный поселился в моем доме. Тут во мне начало что-то проклевываться – именно то, что я почувствовал на премьере. Тогда же вспомнил, что кто-то сказал о Косте, еще мальчике: «Из него вырастет гений». Между прочим, я посоветовал ему тогда побывать в психлечебнице. Для чего? Именно для того, чтобы он не пытался играть сумасшедшего. Ведь герои Достоевского не душевнобольные, а духовнобольные.
Случился и еще один маленький конфликт, в котором, казалось, я опять проиграл, а на самом деле выиграл. Мне хотелось, чтобы роль Смешного играл все тот же Костя, подчеркнув тем самым возрождение Подпольного. Может, он и сам этого хотел, но настоял на том, чтобы Смешного играл Авангард Леонтьев. А тому было даже труднее, чем Косте, но сыграл он великолепно: часовой монолог, а в зале тишина… и тишина эта даже нарастала. Вышло так, что благородство Кости оказалось и художественно точным, плодотворным. О Леночке Кореневой я и не говорю. Она была бесподобна в дуэте с Костей.
И вот премьера. Пришел в театр – билетерша не пропускает. И тут я подставился: «Но я же автор!» В ответ – нокаут: «А я думала, что автор – Достоевский…»
Премьера прошла хорошо. Мы были счастливы. После спектакля долго бродили, катались по Москве и на расклеенных афишах «И пойду! И пойду!» дописывали, уже не по Достоевскому, куда пойду…
Пресса была хорошей. Близилась и премьера «Преступления и наказания» на Таганке. Я водил Володю Высоцкого и других актеров с Таганки в «Современник», чтобы окунуть их в истинно духовную атмосферу Достоевского, свинцово-тяжелую, но с удивительными просветами.
Как-то ночью играли спектакль для знаменитого польского режиссера Ежи Гротовского. Посмотрел спектакль и Аркадий Исаакович Райкин. Оба были удивлены и радостно поздравили нас. Это было нам высшей наградой. Аркадий Исаакович пригласил нас с женой в ЦДРИ. Помню, грустно сказал он сыну: «Костя, как я тебе завидую… Я ведь и сам мечтал сыграть что-нибудь из Достоевского…» И махнул рукой. А я подумал: «Ведь он мог стать нашим гениальным Чаплиным! Ему все было по силам».
Валерий Фокин вспоминает:
Помимо официальных спектаклей, были еще работы, которые делались вне плана, для души. Самый мой любимый спектакль – по Достоевскому, «Запискам из подполья» и «Сну смешного человека» – «И пойду, и пойду…».
Костя (Райкин) был нужен мне как мой герой, как полностью мой артист – это был такой случай: режиссер растет, развивается вместе с актером…
… И мы работали очень истово: и Костя, и Гарик Леонтьев и Лена Коренева – 24 часа в сутки.
… Я сейчас прихожу к выводу, что это был лучший мой спектакль. И Кости, думаю, тоже…
Работа эта с трудом выходила по тем временам. Но, слава Богу, вышла. И когда приехал Гротовский, он абсолютно принял нашу работу.
Первое мое чувство после премьеры, главная мысль от спектакля: как я посмел думать, что все знаю и понимаю в своей инсценировке? Как посмел вообще браться за нее? Знал – да. Понимал – нет. Зато вдруг осознал, что Достоевский вообще непостижим, если читать его только глазами, а не слышать. Собственно, проникся я этой мыслью уже во время репетиций Любимова на Таганке.
А ведь знал я, что Достоевский – писатель, романист – во многом вырос из театра. Его первыми произведениями были драмы – «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». Хотел быть драматургом, да «неистовый Виссарион» яростно его отговаривал от этой стези и вроде бы отговорил. И вот тогда Достоевский-драматург «ушел в подполье», сделался «подпольным» драматургом в своих романах. Недаром в черновиках он все время взнуздывал себя: «Сценами, а не словами…» Фраза эта повторяется у него десятки раз. А у кого из романистов столько диалогов, да и все монологи внутри героев насквозь диалогичны? Каждое слово монолога – «корчащееся», «с оглядкой» (М.М. Бахтин). Говорит один, а кажется – окружен множеством других людей, и он их задирает, спрашивает, им отвечает, и всегда с новым вызовом.
Теперь-то известно, что на театре и в кино Достоевского ставят несравненно чаще любого другого романиста, столько же или почти столько, сколько «чистых» драматургов. Не случайно же МХАТ почти сто лет назад «Бесами» и «Братьями Карамазовыми» заново открыл Достоевского, подтвердив мысль Мережковского: «Толстого видишь, а Достоевского слышишь». А что касается известного недоверия самого Достоевского к инсценировкам его романов, то здесь все дело в том, вероятно, что он имел в виду тот театр, театр XIX века, театр Островского. Да и не было еще таких режиссеров, актеров, художников, которым это было бы под силу. Это все равно как в случае с композитором, создавшим симфонию, которую еще не мог исполнить ни один оркестр…
ФОТО 012 013
Достоевский нуждался в театре, но в другом театре, во всяком случае, он невероятно ускорил его рождение. Его романы рвались на сцену, и сцена такая наконец появилась, уже в ХХ веке.
Поставить на театре «ВСЕГО ДОСТОЕВСКОГО» в одном спектакле (порой вспоминаю первоначальный замысел Юрия Любимова)… на это я не способен и сегодня. Полагаю, и никто не способен.
Совсем другое дело «маленькие трагедии» Достоевского. Здесь я чувствую себя в силах. Конечно, название пришло по аналогии с «маленькими трагедиями» Пушкина. Он написал их во время своего гениального болдинского «запоя». За две-три недели: «Скупой рыцарь» – 23 октября; «Моцарт и Сальери» – 26 октября; «Каменный гость» – 2–4 ноября; «Пир во время чумы» – 6–8 ноября.
Если же говорить о «маленьких трагедиях» Достоевского – а сюда бы я включил «Записки из подполья», «Сон смешного человека», «Бобок» и «Приговор», – они были написаны в течение тринадцати лет. Но растянутость сроков Достоевского не только не противоречит единству его симфонии, а подтверждает неотвязность, лейтмотивность темы-идеи:
«Записки из подполья» – это «дурная бесконечность» колебаний Подпольного.
Квазивыход из этой ситуации – «Приговор».
Потом идет «Бобок». Как страшный ответ на страшный вопрос: «А что там, за поворотом?» (Д. Самойлов)
И наконец, найден истинный выход – «Сон смешного человека».
Сначала я думал построить инсценировки «маленьких трагедий» Достоевского хронологически: «Записки из подполья» (1864), «Бобок» (1873, январь), «Приговор» (1876, октябрь), «Сон смешного человека» (1877, апрель). Но возникла одна закавыка. В своем письме брату Михаилу во время работы и публикации «Записок из подполья» Достоевский досадует: «свиньи цензоры» вырезали из «Записок» едва ли не любимую им часть, обвинив автора чуть ли не в атеизме. А для него это была самая христианская часть. Сколько достоевсковеды ни искали «вырезанное» – не нашли.
Но прочитайте, перечитайте «Записки из подполья» и «Приговор»: человек выпущен на землю в виде наглой пробы. Диаволов водевиль... Сравните голос, ритм, тембр. Включите «Приговор» в композицию «Записок», и вы с очевидной наглядностью убедитесь в кровном родстве этих двух произведений. Не два, а одно! «Приговор» и есть вырванный с мясом кусок из «Записок». А потому-то и должен быть поставлен сразу после «Записок». И как замыкаются начала и концы – «Записки из подполья» и «Сон смешного человека».
«Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек… я уже давно так живу…» («Записки из подполья»). Не напоминает ли: «Я человек смешной… я всегда был смешон… они смеются надо мной…» («Сон смешного человека»).
Общее, помимо всего прочего, – трижды повторенное «Я». Но это тоже, в сущности, автопортретное «Я».
В первых трех произведениях лейтмотив – смерти и смерти! Последние слова «Сна смешного человека» – «Жизни и жизни!».
Хочется сопоставить последние слова, последний аккорд, финал четырехчастной симфонии «маленьких трагедий» Пушкина и предполагаемых, в соединении маленьких драм Достоевского.
У Пушкина:
«Председатель:
Отец мой, ради Бога,
Оставь меня!
Священник:
Спаси тебя Господь!
Прости, мой сын.
Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость».
Финал четырехчастной симфонии Достоевского:
«А ту маленькую девочку я отыскал. И пойду! И пойду!»
Как странно, как неожиданно:
у Пушкина – достоевский финал, почти безвыходный;
у Достоевского – финал пушкинский, светлый…
Да и весь финал всего Достоевского – именно пушкинский. Троекратный финал – «Сон смешного человека», речь Алеши у Илюшиного камня, Пушкинская речь Достоевского… Как будто Пушкин шел к Достоевскому и даже заглянул в те пропасти, что тот открыл. А Достоевский шел к Пушкину как к спасению. Весь Достоевский – и театр, как никто и ничто, помог мне в понимании этого. Убийство, самоубийство и воскрешение… самовоскрешение.
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.
«…ОСТАЛИСЬ НИ С ЧЕМ ЕГЕРЯ»
Заочно, по песням, я Володю не знал. Почему-то до Праги, где я работал до 1965 года, песни его тогда не доходили. Встретились мы на Таганке. Как-то после спектакля зашел я в кабинет Любимова, а там актеры театра (я еще толком никого не знал) поют. Высоцкий, Хмельницкий, Золотухин. Тогда не выделил никого – смутно помню, пели вместе, порознь...
Но в другой раз… Кончился спектакль, я привычно пошел за кулисы, и там стоял и пел замечательный парень. Ни для кого, ни для чего – просто стоял и пел! И это был укол. Как-то все не так: просто человек стоял и ни для кого, ни для чего пел. Светлый-светлый. Молодой. Это настолько ни во что не вписывалось... Как будто я нечаянно подглядел этого человека.
Но если быть честным, то до самой Володиной смерти я не понимал, не осознал, что он настоящий поэт. Понял, когда глазами прочел его стихи в первой книжке – «Нерв». Особенно когда позже узнал уже все его творчество, и стихи, и прозу. А первый его понял и открыл самый старый среди нас, друзей театра, самый мудрый, гениальный человек – Николай Робертович Эрдман. Он слушал-слушал его и однажды сказал пророческую фразу: «Этот мальчик скоро всех нас победит»...
ФОТО № 10
Вспоминается один вечер из тех, когда зазывали его «меценаты». Едва он начинал петь, как они кривились, будто вместо легкого винца хватанули стакан спирту... Почему-то запомнилась дата того вечера – 3 февраля, но начисто стерся год. Было это где-то в конце шестидесятых. Володя впервые спел тогда «Мы вращаем Землю». Впечатление на меня это произвело совершенно невероятное. И до сих пор все повторяется, как только я услышу: «От границы мы Землю вертели назад...» Песня настолько скульптурна, осязаема, что я ее просто вижу перед собой каждый раз, как грандиозный спектакль. Мистерию. Это титанические образы. Это, может быть, самое сильное, что сказано о войне.
Кстати, замечу, как-то на одном из вечеров его памяти, обращаясь в зал, я спросил: «Какая любимая песня Высоцкого?» Теперь-то все (или, во всяком случае, все, кто хочет) знают, а тогда – нет. «Вставай страна огромная»... Очень хорошо помню, что, когда я это сказал, в зале было стыдливое недоумение. Мол, как же так? Такой человек... А я тогда, кажется, понял, что для него значила эта песня... Я-то ее помню как песню страшную и одновременно несущую надежду. Что бы ни говорили о тех, кто ее написал (они потом много грешили), но, может, никогда в истории человечества не было больше такой песни, которая бы духовно спасла целый народ. В войну именно с ней приходило полное, без промежуточных инстанций, слияние людей с действительным осознанием абсолютной смертельной опасности, которой подвергались страна и весь мир. Вот это слияние, я понял тогда, для него и было, наверное, идеалом. И «Мы вращаем Землю» – это, может быть, его попытка слиться с тем идеалом. Это его образ войны.
Ему удалось по-настоящему пережить войну, и здесь, думаю, нужно понять одну вещь. Дело в том, что мое поколение, не говоря уж о поколении Высоцкого, считало себя обделенным тем, что не воевало. И когда я, скажем, учился в университете, мальчики, вернувшиеся с фронта, казались нам другой нацией, другим племенем. Хотя на самом деле они были старше нас на каких-то два-три года. Потом время как-то перемешало всех, но та недодача так и осталась чертой поколения. Замечу только, что мы по большей части мучились этим расплывчато, несобранно – страдали, завидовали, а Высоцкий, как художник, сосредоточил, кристаллизовал наши чувства:
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки…
И чисто по-человечески это был мужской поступок. Володя понял неосознанно – почуял, что, не погибнув на войне, он не состоится как человек и художник. Это был сон, доведенный до уровня события. Что хотите, но у мужика должно быть ощущение: ну, хорошо, повздыхай по поводу трех мушкетеров, повздыхай по поводу Остапа и Андрия в «Тарасе Бульбе», но хоть раз – соверши поступок!
У него в конце концов все песни стали поступком. Но их бы не было вовсе, если бы он погиб на войне. Совершенно невероятное явление: он должен был внутренне провоевать и погибнуть, чтоб жить. И в этом смысле он пережил войну. Война была для него предельно возможным испытанием, самой большой болью, какую только может вместить этот мир. А боль он всегда считал главным мотивом творчества.
Где ему удалось достичь такой правды? Почти во всех ролях и во всех песнях. Но для меня сильнее всего оставались Хлопуша в «Пугачеве» да песни «Мы вращаем Землю», «Охота на волков» и «Банька по-белому». Хлопуша – прежде всего! Как он играл! В цепях, полуголый – что-то совершенно невероятное, словно выпадаешь в иную реальность.
Для него, как мне теперь кажется, было характерно какое-то целомудренное, очень мужское сокрытие своего ясного самосознания, своей обязанности до конца исполнить то, чему он был предназначен.
Нам приходилось довольно часто вести с ним разговоры о литературе, о культуре вообще. Как-то Володя приехал к нам домой в Новые Черемушки. Хотелось ему спокойно со мной поработать, лучше понять спектакль, быстрее войти в роль. Переполох среди нашей детворы, и не только детворы, случившийся, когда появился его «серебряный ландо», а потом и сам Высоцкий, трудно описать! Потом еще долго местная шпана говорила: «Машину этого – указывала на нашего «жигуленка» – не трогать, к нему Высоцкий приезжал!»
Я обычно говорил больше, он задавал очень сильные вопросы. Спецификой его восприятия являлась невероятная впитываемость. Он был, если позволено так сказать, выпытчик. Внутри него как бы помещался постоянно работающий духовный магнитофон, который все записывал. При этом Володю отличала поразительная интеллигентность, состоявшая в том, что он подчеркнуто и, конечно, без унижения какого бы то ни было, всегда давал тебе какой-то сигнал о том, что ты, мол, старше, а я – младше, и, соответственно, я веду себя так, а ты – иначе. Он как бы поднимал собеседника, провоцировал на монолог, а сам все это время что-то внутренне записывал, записывал, записывал.
Он был невероятно обаятельный человек. Впрочем, обаяние – сложная штуковина, как ее определить? Видимо, прежде всего, это открытость. Причем есть обаяние объективное, когда человек обаятелен помимо воли. А Володя знал, что он обаятелен, и всегда пользовался этим. Но целью подобного пользования была не игра и уж подавно не корысть, а какая-то настоящая радость, которую он нес всем нам. Он знал, что обаятелен, видел, что это замечено, и сразу становился еще больше обаятельным, и так далее, но никогда при этом он не переходил границу навязчивости. И страшно быстро превращался чуть ли не в чиновника – по отношению к людям нелюбимым, посторонним, не влекущим. При этом он не ходил и не разбрасывал свое обаяние. Это было достаточно избранно.
Жалоб от него я никогда не слышал. Но однажды он рассказал историю, которую, как мне кажется, переживал тяжко. Хотя рассказывал в своей обычной манере, полушутливо.
«Я однажды просыпаюсь... в гробу! – (Тут надо видеть его физиономию!) – Съежился, – продолжает рассказ, – тихонько открываю один глаз – стенка, открываю другой – что-то не то... А потом взял и сел – в гробу, на столе». После того рассказа у нас некоторое время был свой пароль. Когда мы встречались, Володя всегда сначала расплывался, а потом на ухо, скороговоркой: «Еще-не-в-гробу!»
Я знал и знаю только одного человека, который очень сильно влиял на него. Человека, который, кстати сказать, мне в нем открыл очень многое, сам того не подозревая, наверное. Ведь то, что я говорил о Володе: что он должен был помереть и выжить на войне, помереть и выжить в лагере, помереть и выжить в русской истории, помереть и выжить в Свидригайлове, – это все так, но это, вроде бы что-то объясняя, все же образует какой-то замкнутый круг. Для меня этот круг прорвался, когда я познакомился с Вадимом Тумановым. Я увидел этот совершенно могучий слиток, корень и понял, что Володя припадал к нему, как раненый, больной зверюга. Подключался. Это действительно мужик. Ведь что такое мужик? Мужик – это две вещи: дикий труд... но обязательно красивый труд. И жизнь чтоб как ручей: пьешь, и зубы ломит. И сама боль эта сладка. Так в натуре. Но у всех он забивается мутью, и с годами все больше, больше, и уже ручей – не ручей, а не знаю что... Володя, по-видимому, в какие-то моменты умел все бросить и махнуть к Туманову. Вадим – это, если можно так сказать, непоющий Высоцкий. А Володя пел за него... Недавно у Цветаевой я нашел слова: «Дар души равен дару глагола». Это как будто о них. Они друг друга открыли и отчеканили.
А для меня он, младший, оказался еще и учителем. Он открыл новую формулу жизни – сделать невозможное, одолеть себя: «Я из повиновенья вышел – за флажки: жажда жизни сильней... И остались ни с чем егеря». Но... но еще надо очень поработать, чтобы они все остались ни с чем, «егеря» эти, чтобы оставить их без реванша.
ФОТО 01
Статью «…ОСТАЛИСЬ НИ С ЧЕМ ЕГЕРЯ» я написал в августе 1980 года, к сороковинам Володи, по просьбе Марины Влади и отослал ей в Париж. Опубликовать ее в Москве надежды было мало, тем не менее я показал ее своему приятелю Л. Лавлинскому, главному редактору журнала «Литературное обозрение», с которым зимой 1980–1981 гг. месяца три жил рядом в писательском Доме творчества в Малеевке и много разговаривал.
Его первая реакция была почти предсказуема:
– Не люблю я Высоцкого, много приблатненных песен, да и не наша это тема.
– Да слушал ли ты его настоящие песни, читал стихи?
В общем, заразил я Лавлинского песнями Высоцкого, которых он, как оказалось, просто не знал (а многие ли чиновники, даже литературные, знали?)
Слушали с ним вместе «Баньку», «Коней», «Охоту на волков», «Гамаюн»…
К годовщине смерти Володи поставил Лавлинский статью в номер на июль 1981 года. Конечно, не обошлось без сопротивления цензуры. Ведь тогда о Высоцком еще ничего не было опубликовано. Только Роберту Рождественскому, настоящему «тяжеловесу» в нашей литературе, удалось одолеть начальство и подготовить сборник стихов поэта со своим честным, пронзительным предисловием.
Цензор был взят мною в осаду тем же способом: поехал к нему, припас на всякий случай бутылочку и, главное, магнитофон и записи самых любимых песен. «Я ничего у вас не прошу, только – послушать». Сопротивлялся. Я наступал, не сдавался. Начал слушать. Конечно, выпили, не без этого. И сдался. Разрешил статью с небольшими купюрами и с более нейтральным названием «О песнях Владимира Высоцкого». Так она и была опубликована в июльском номере «Литературного обозрения» за 1981 год.
В первый год после смерти Володи мне приходилось довольно много выступать: устное слово о нем разрешалось, письменное – цензурировалось. Я почти всегда импровизировал, никто за мной ничего не записывал, как мне казалось. А в действительности уже появились молодые поклонники Высоцкого, нацеленные на работу, на сохранение и собирание его творчества. Одним из первых был Андрей Крылов, разыскавший меня как-то в Малеевке в связи со своей идеей – начать записывать воспоминания о поэте. Потом мы сдружились, и Андрей оказался прекрасным помощником, а с годами возглавил научно-издательский совет при музее Высоцкого и сделал уникальную работу – собрал все его опусы и выпустил шесть томов исследовательских сочинений о нем.
Почти сразу после смерти Володи мы с писателем Валентином Оскоцким и искусствоведом Натальей Крымовой провели на факультете журналистики семинар по творчеству Высоцкого – почти подпольно, власти запрещали, даже уже после смерти поэта, писать о нем, а тем более устраивать публичные акции. Помнится, я пошутил: «Вот увидите, будут еще писать диссертации по Высоцкому!» Тогда это показалось странным. А сегодня число диссертаций по его творчеству приближается к полусотне.
Да, изменилось многое, но, думаю, будь Высоцкий с нами сегодня, нашел бы он темы для своих песен – и ох как многим бы не поздоровилось!
Одно из моих тогдашних выступлений – в Ленинграде в декабре 1981 года было опубликовано на конверте пластинки серии «На концертах Владимира Высоцкого», изданной фирмой «Мелодия» уже приличным тиражом. Вот оно:
Никак не избежишь искуса определить значение Высоцкого каким-то одним словом, и каждый раз получается новое слово, и понимаешь, что оно не исчерпывает явления. И вот сегодня у меня искус – я бы выразил это значение словом «доверие». Люди к нему испытывали доверие, знали, что он не выдаст, не продаст, не соврет. Но, действительно, это должно быть чем-то объяснено. Исчерпать ответ невозможно какими-то простыми вещами, но я бы сейчас назвал две: беспощадность к себе и четкое осознание того, что такое смерть. Он хотел, он умел вживаться в душу каждого из нас – отсюда безоглядность доверия, которое он заслужил.
У нас есть иногда неискореняемое, неискоренимое убеждение, что вот талант – и все тут. По-моему, Высоцкий, как и всякий художник, дает основание для такого определения таланта, которое я попытаюсь дать и которое не претендует отнюдь на какой-то академизм, а если претендует, то уж на антиакадемизм. Талант – это просто ненависть к собственной бездарности и умение ее вытравливать, умение себе в этом признаваться без пощады... Вот эта беспощадность Высоцкого, на которую мало кто способен, – признаться другим и особенно себе – это и есть уже преодоление бездарности, и нравственной, и поэтической. И победа над ней. Вспомним: «...я не меряю, я говорю больше об ориентирах»... «И строк печальных не смываю» (Пушкин). Беспощадность этой мысли и объясняет наше доверие к поэту.
А то, что я говорил о смерти, – тема не кладбищенская, это тема жизни, и когда нас, литераторов, упрекают, что мы оторваны от жизни, я убежден, что оторваны мы от жизни больше потому, что оторваны от смерти, потому что без смерти, без ориентации на нее, без памяти о ней не может быть и никакой нравственности, никакой совести. Здесь знание о последнем отчете, – это не апокалипсическое какое-то видение, это, если хотите, не художественный образ, а деловой отчет перед людьми, перед народом своим, перед будущим. Вот под этим углом я бы прочитал большинство его стихов. Эта тема у Высоцкого – главная. И даже больше того: мне кажется, что ни юмор, ни сатира настоящая – не зубоскальство, не «хохмочки», а настоящий заразительный смех – невозможны без этой ориентации, без этого отчета о том, что каждый из нас – смертен. Я сошлюсь на ориентиры высокие:
День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать...
Мне кажется, что ни художник, ни поэт, ни вообще человек настоящий невозможны без видения своей смерти, предчувствия ее: без этого невозможны духовное здоровье, смех, юмор, мужество.
И вот еще о чем хотелось бы сказать: по крайней мере я ни на ком так, как на Высоцком, физически, воочию, не ощутил давно предчувствовавшуюся мною мысль, что чистое, самое чистое явление и в жизни, и в искусстве растет из нечистого, из одоления его. И не залпом рождается, а бесконечной работой. Высоцкий, насколько я знаю, не отказывался ни от какой работы, и, сторонясь славы, которая его сопровождала, мешала ему, он не отказывался ни от чего. Помимо всего прочего, дело, вероятно, было не только в его душевной щедрости, но еще, если хотите, и в надобности, потому что он не только давал, но и фактически много вынимал, чтобы потом отдавать.
Высоцкий – явление национальной культуры самого высокого класса. У нас сейчас много о русском написано, есть прекрасная статья, лучшая, на мой взгляд, статья Д. С. Лихачева о собирании культуры, но в то же время проблема иногда понимается как простое преклонение перед ценностями – и дай бог сохранить, укреплять, собирать физически осуществленные памятники, но главная ценность все равно нравственная, и сами эти памятники, картины, иконы, соборы и т. п. – ничто, если они не воплощены в каких-то действительных нравственных ценностях нации.
Среди таких ценностей есть и те, коими мало кто так дорожил, как Высоцкий, – безудержная удаль, полное бескорыстие и, может быть, самая важная – жалость. При всем сарказме, при всей беспощадности к злу он в поэзии был органически верен тому, о чем говорил Пушкин: «И милость к падшим призывал...» Или Достоевский: «Жалость, не изгоняйте жалость из нашего общества, потому что без нее, без жалости, оно развалится».
Мало кто так, как Высоцкий, напоминал нам и напоминает об этом, может быть, коренном сочетании черт русского характера: беззаветности Стеньки Разина и Хлопуши и в то же время какой-то жалости, как будто человек (а так и было действительно) переболел всеми страхами, болями, надеждами.
И последнее. Я думаю, что в любви к Высоцкому нужно быть потише, и настоящая любовь очень тихая, не кликушеская, и есть надежда, что эта тихая любовь превратится в большой труд...
Я не силен в истории поэзии, но я убежден, что Высоцкий возродил живое слово, потому что исторически слово поэтическое родилось как песенное, потом мы стали читать глазами и отучились слушать, а он вернул живое слово. Мне кажется, что в этом и состоит природа его стиха: это не «глазные» стихи, хотя и великолепные стихи, когда вы их смотрите глазами, но они все равно звучат, и навсегда остается убежденность в интонации, в особенностях именно его голоса. Само по себе это – явление поэтическое, которое еще предстоит познавать, потому что мы не должны забывать о простой вещи: современники себе не судьи. Возможно, мы даже не представляем себе (я в этом уверен) всех масштабов того явления, которое пронеслось перед нами, – и, по-моему, все впереди...
ЭЛЕМ КЛИМОВ.
«БЕСЫ» – НЕСНЯТОЕ КИНО
Встреча наша с Элемом произошла на первый взгляд (думаю, лишь на первый) совершенно случайно.
Началось с того, что большой, сильный, добрый и какой-то незащищенный Георгий Куницын в один прекрасный майский день (1971 года) растерянно встречал приглашенных на банкет и каждому говорил: «Надо же, провалили! Но ведь все уже оплачено. Не пропадать же…»
Кто-то из тех, кто был на защите его докторской в Институте философии, уже знал о том, что произошло, и смущенно помалкивал. Кто-то, вроде меня, еще не знал, что случилось, и неуклюже пытался поздравлять «именинника», но тут же осекался, глядя на его вытянутое лицо вконец расстроенного человека. Да, провалили его защиту. Уж не знаю, какую «антимарксистскую ересь» нашли ученые мужи – философы в культурологических тезисах этого убежденного марксиста. Или просто неприятели его (а их было предостаточно у этого открытого и талантливого человека) накидали «черных шаров». Только докторская накрылась, но банкет должен был состояться. Все мы были еще молоды, полны энтузиазма и веселья, и в конечном счете наша дружба и приязнь друг к другу была важнее всех этих докторских степеней.
...Все бы жить, как в оны дни,
Все бы жить легко и смело,
Не высчитывать предела
Для бесстрашья и любви
Вот в таком настроении рассаживались мы за накрытыми столами, и я очутился рядом с высоким красивым молодым человеком, выделявшимся среди собравшихся гордой осанкой и каким-то цепким и насмешливым глазом. Нас познакомили.
– Элем Климов.
– Конечно, знаю. «Спорт, спорт, спорт…» Великое кино. Так понять и, главное, показать, что силы человеческие – неисчерпаемы.
Разговорились и, как это бывает у русских людей, умудрились часа за полтора-два рассказать о себе все.
ФОТО № 41
Я тогда, после «исключения из рядов», попал в черный список непубликуемых и недозволенных к выступлениям. У Элема закрыли (вернее, дважды приостанавливали запуск съемок) фильм, который он вынашивал несколько лет, – «Агонию». Но остановить его фантазию, его творческие замыслы не мог, конечно, ни один чиновник. Элем буквально фонтанировал идеями и придумками. Иногда приезжал к нам на Перекопскую, в нашу пятиметровую кухню, чтобы просто рассказать о том, что у него сочинилось.
Однажды звонит и без всяких объяснений непререкаемым тоном командира десантного полка приказывает:
– Немедленно приезжай на «Мосфильм». Пропуск заказан.
– Что случилось?
– Объясню при встрече.
Несусь на «Мосфильм». Элему разрешили снимать. Мимоходом объясняет мне срочный вызов:
– Видишь ли, я когда-то дал себе зарок – в каждом фильме снимать жену и друга. Иначе потерплю неудачу. Вот, будешь сниматься с Ларисой в сцене пьяной оргии Распутина в московском ресторане. Иди, одевайся. Лариса уже ждет.
ФОТО 42
Действительно, Элем снял нас в странной мизансцене (снимал полдня, а на экране это длится 30 секунд): я, весьма достойный господин из дворян, пытаюсь защитить и увести от пьяных глаз разгулявшегося мужика молодую московскую красавицу. Снять-то он нас снял, весь фильм снял. Горел, весь выложился, все свои придумки воплотил… И начались бесконечные придирки: исправить, прояснить, отразить… Элем ни в чем существенном не уступал. Фильм положили на полку.
Кажется, в 1975 или 1976 году (я тогда не вылезал из Театра на Таганке) брат Элема Герман привез ему из Минска повесть белорусского писателя Алеся Адамовича «Хатынь». Я уже читал ее, но самого Алеся еще не знал. Видел, что Элем загорелся новым материалом. При наших встречах рассказывал, что пишет вместе с Адамовичем сценарий фильма по повести, называл свой будущий фильм – «Убейте Гитлера». Рассказывал Элем о своих замыслах так, что казалось, уже нечего и снимать: перед глазами вставали такие яркие картины, будто наяву.
Но увидели мы этот фильм только через десять лет, в 1985 году, под другим названием – «Иди и смотри». В том же году фильм получил первый приз на Московском международном кинофестивале. Вот что записалось тогда по горячим следам:
Потрясает финальная сцена. Белорусский мальчик-партизан Флёра прошел через такие адовы муки, выдержать которые было дано далеко не всем взрослым, даже не всем мужам-воинам. Постарело, обуглилось лицо, постарели, застыли, не мигают глаза, увидевшие такое, от чего можно ослепнуть, обезуметь, поседела голова. И вот он – один на один с Гитлером.
Сначала это портрет Гитлера. Мальчик остервенело стреляет в него. Камера уводит нас назад в историю...
Вот возникает на экране Гитлер реальный, в маразме, подыхающий, но все еще благословляющий на последнюю бойню таких же юнцов, как этот мальчик. И Флёра – стреляет, стреляет в него с еще большим остервенением. Стреляет и в Гитлера молодого, изрыгающего свои речи, от которых млеет толпа, млеет в омерзительном сладострастии.
Документальные, хроникальные кадры – сама история! – откручиваются назад, все быстрее и быстрее. Гитлер, еще совсем молодой, рвется к власти, а мальчик – стреляет, стреляет. Бомбы и парашютисты всасываются обратно в самолеты, поднимаются руины домов, гитлеровцы стремительно шагают – пятятся назад. Вот Гитлер – ефрейтор Первой мировой войны. Мальчик – стреляет, стреляет в него, и вместе с ним ненавидим, стреляем и мы.
И вдруг перед мальчиком возникает фотография: молодая женщина, на руках у нее – малыш. Кто это? Маленький Шикльгрубер, гитлереныш. Сначала не хочешь, не можешь назвать его иначе: ведь из гитлереныша этого и вырастет Гитлер. Но это – мальчик, дитя, нормальное человеческое дитя. Что делать Флёре? По логике «нормальной» – стрелять, тем более стрелять, чтобы убить зло в самом его зародыше. По логике гуманизма – ни в коем случае! Ни за что! И наш мальчик не стреляет, не может выстрелить в ребенка.
Для меня финальная сцена фильма, сцена «невыстрела» – это великая метафора гуманизма, одна из самых убедительных, убеждающих, неотразимых в отечественном и мировом киноискусстве. Гуманизма не сладкой бессильной фразы, а именно горького, сильного, действенного. Гуманизма, в котором слились воедино мудрость, благородство, одоление, казалось бы, абсолютно неодолимого, а еще, главное, непосредственность детского доверчивого взгляда, сохранившегося, несмотря ни на что. Это – завет поколения, воевавшего в последней мировой войне, более того – завет всех поколений, воевавших в бесчисленных войнах в течение веков и тысячелетий, завет новым будущим поколениям: не стреляйте!
Да, это великая метафора гуманизма, великая победа гуманистического мировоззрения, верность великой гуманистической традиции русской литературы, литературы Пушкина, Достоевского, Толстого.
И вдруг понимаешь, как ее до сих пор не хватало, этой сцены! Вот последняя точка в войне! Вот последняя точка во всех войнах! Вот истинное «сведение счетов» искусства с войной.
Сегодня порой раздаются голоса: пора перестать говорить о Хатыни, Орадуре, Освенциме и Хиросиме. Сегодня многие люди не задумываются о прошлой боли и об опасности боли грядущей. Есть две крайне редкие болезни: амнезия (беспамятство) и гипоалгезия (нечувствительность к боли). Но духовно-нравственная амнезия и духовно-нравственная гипоалгезия – болезни едва ли не самые распространенные среди людей и, главное, самые заразные! Что делать, чтобы вернуть людям память на страдания, что делать, чтобы им стало больно от боли? А может, здесь есть только один способ: подключать ток прямо в мозг – воскреснет память! Кожу, проклятую, толстую, непробиваемую сдирать – станет больно!
«Не хотим на это смотреть»? «Не желаем об этом читать»? «Знать не хотим»? «Изысканность чувств мешает»? Это, мол, уже не искусство, а какие-то недозволенные приемы.
Ну, а если все это было с нашими матерями, отцами? А если все это грозит нам самим и нашим детям?
Нам просто не хватает воображения признать факты. Недостает фантазии видеть реальность.
Или все равно, мол, выхода нет? Есть, есть выход! Есть свет! Есть духовный подвиг спасения! Какой? – «Невыстрел»! «Невыстрел» прежде всего в детей!
Повторяю еще и еще раз. Пусть люди, которые не хотят смотреть такие фильмы, не желают читать «Карателей» (А. Адамович) или «Блокадную книгу» (А. Адамович, Д. Гранин), – пусть эти люди спросят себя: а стали бы смотреть, стали бы читать, если б знали, что это всё о твоем отце и матери, о твоих родных братьях и сестрах, о детях твоих? Пусть представят: тебя, тебя – нет, тебя убили, сожгли, замучили, ты сам пережил такое, ты сам оставил после себя такие письма, дневники, а дети твои, внуки, столкнувшись с этими письмами, дневниками, говорят: не можем, не хотим, не будем читать, это не искусство... Если это не доходит, если не дойдет – миру не спастись. Но фильм «Иди и смотри» доказывает: доходит! дойдет! Здесь действительно ток – прямо в мозг, здесь действительно кожу сдирают. А результат? – Взрыв совести!
…Я вспоминаю выражение Адамовича о том, что никогда еще формула «убить человечество» не соприкасалась столь тесно с формулой «убить человека». Ведь нельзя сказать – не убий человечество, но можешь убить человека. Почему? Да потому, что все и началось именно с допустимости тезиса «убий человека». А если «убий человека» означает – убий любого, то это и значит, что в конце концов можно убить всех. Остальное лишь дело техники. Поэтому высший и единственно реальный гуманизм состоит не просто в том, чтобы сказать (и осуществить) – «не убий человечество», не сказав (не осуществив) – «не убий человека». Все сложнее. Иначе будет лишь новая отсрочка самоубийства человеческого рода. Как в химии: вы бросаете какой-то реактив, щепотку, кристаллик в раствор, а через определенное время получаете всеохватывающую реакцию. Или как в биологии: массовая эпидемия от какой-то одной «трихины». Так и тут. Если брошена в человечество «трихина», кристаллик такой – «убий человека», то в итоге и получим – «убий человечество». И ничего другого не получим.
И еще вдумаемся. Установлено: за четыре с лишним тысячи лет известной нам истории человечества было всего что-то около трехсот лет мирных.
Итак, люди почти все время жили до войны, во время войны, после войны и опять – перед новой войной и т. д. и т. п. То есть люди жили в неизбывной и все сгущающейся атмосфере войны, жили в определенном смысле, в сущности, для войны, войной. Военное прошлое, военное настоящее, военное будущее. Это не могло не наложить резкую глубокую печать на все их отношения, не могло не деформировать все эти отношения. Вся социальная психология несла и несет на себе эту проклятую и неизгладимую, вечную печать, причем – чем ближе к нашему времени, тем печать все более резкую и глубокую, так что стало казаться (да так, в сущности, и есть), что сама внутренняя политика все более превращается в продолжение политики внешней. Прежний приоритет политики внутренней, когда политика внешняя была ее продолжением, сменился «паритетным» взаимодействием той и другой, а в двадцатом веке – все большим приоритетом политики внешней,
И вот эту многовековую мощную, нарастающую в геометрической прогрессии инерцию, это беспрерывное ускорение роста фактора военного необходимо остановить буквально в считанные исторические дни и часы. Задача абсолютно беспрецедентная по своей важности и трудности, но не решить ее – значит погибнуть в самоубийстве.
Я думал об этом, глядя, как Климов заставляет историю откручиваться назад. Возникло странное, небывалое чувство обратимости истории. Секунда – и воскресли миллионы. Секунда – и фюрер не фюрер, а ефрейтор. Еще секунда – и он же нормальный малыш... Для Климова это не «прием», не просто «находка мастера». Здесь у него – мысль, мысль глубокая, мировоззренческая: нет фатальности, нет абсолютной предопределенности в путях истории. Конечно, история – это не шахматы, но порой бывает так, что случившегося могло бы и не быть, будь найдены и сделаны другие «ходы». Может быть, когда-нибудь ученые докажут неопровержимо, какие и когда реальные шансы избежать Второй мировой войны были упущены, кем и почему. Позволяет же домашний анализ проигранной шахматной партии найти роковую ошибку.
И вот, глядя на это откручивание истории назад, я думал: а покажи людям, зачинавшим эту войну, ее результаты, их собственный конец, покажи людям, не желавшим этой войны, но и не сопротивлявшимся ее подготовке, покажи им пятьдесят миллионов убитых, покажи Освенцимы и Орадуры, Хатыни и Хиросиму-Нагасаки – неужели бы война эта произошла?
Давно сказано Гегелем, что вся история учит только одному – тому, что на ее уроках никто не учится. Однако к этой трагической иронии наше время сделало одно, но решающее добавление: если и сейчас уроки истории не будут извлечены, то не станет и самой истории, вообще закончатся все и всякие уроки. Вы видели, читатели, как гитлеровцы сжигали детей в церкви и как они, дети, летали там, в церкви? Ну, так дело и идет к тому, что все дети, все люди будут так же летать над всей Землей,
Все это – лишь небольшая часть мыслей и чувств, которые вызывает фильм «Иди и смотри». Он обжигает не только огнем войны прошедшей, но и огнем той войны, после которой, если она случится, сгорит уже все. Фильм этот не только, а может быть, и не столько оглядывается назад, сколько заглядывает вперед: только «невыстрелом» может быть спасена жизнь на Земле.
«Иди и смотри» – слова из Апокалипсиса (глава 6), но весь фильм – о неприятии «конца света», о суде над помыслами и деяниями, ведущими к такому концу, о спасительном суде, который должен состояться до и вместо всеобщей атомной Хатыни.
Достоевский говорил: «Где наши лучшие люди? Всплывут во время опасности». Именно такими людьми создан этот фильм. И он множит число таких людей...
Но все эти мысли – уже задним числом. А тогда, в 1975–1976 годах, когда Климов с Адамовичем уже начали вплотную работать над запуском картины (при поддержке первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Машерова), из Москвы послали расстрельную команду во главе с первым официальным кинокритиком из газеты «Правда». И фильм запретили.
Грешно говорить, но нет худа без добра. Элем приехал ко мне в Малеевку (мы там жили с Ирой всю осень 1978-го и зиму 1979 года) и предложил делать сценарий по «Бесам» Достоевского. Предложение я принял с радостью, тем более что сидел в это время над инсценировкой «Бесов» для Театра на Таганке. Дал себе зарок: никаких чужих инсценировок не читать, хотя на столе передо мной в качестве приманки-раздражителя лежала переведенная для меня с французского одной милой старой дамой пьеса Камю.
Началась работа. Прежде всего снова и снова читали сам роман и черновики к нему. Это новое запойное чтение и бесконечные разговоры напомнили мне те страшные и просвещающие ночи конца 50-х годов, когда я и мои друзья читали все еще запрещенных «Бесов», сопоставляя прочитанное непосредственно, в лоб, с только что полученной из доклада Хрущева на ХХ съезде информацией о преступлениях сталинского режима.
«О, у них все смертная казнь и все на предписаниях, на бумаге с печатями, три с половиной человека подписывают…» Да это же о сталинских «тройках»!
«Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве». Да все наше детство построено на рассказах о шпионах!
«Мор скота, например. Слухи, что подсыпают и поджигают. Вообще, хорошенькие словечки, что подсыпают и поджигают». Опять будто о наших 20–30-х годах.
«Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. Этого вы не должны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы». Чем не большевистская программа создания «нового человека», но в устах – Петруши Верховенского.
«Кто не согласен с ним, тот у него подкуплен…» А это уж прямо замыкалось у нас тогда на Сталине, на его коллективизации и прочем.
А вот и другие провидческие слова писателя:
«Вы не постыдитесь написать, что вы даете 80 миллионам народу только несколько дней, чтобы он снес вам свое имущество, бросил детей, поругал церкви и записался в артели…»
Мы читали и не верили своим глазам: все это мы знали, все это слишком хорошо помнилось. Мы читали и перебивали друг друга чуть не на каждой странице: «Не может быть! Откуда он это знал?» Конечно, тогда для нас было потрясение прежде всего политическое. Духовное развитие требовало и сил, и времени. Не сразу мы тогда поняли, что в романе дана гениальная и самая ранняя диагностика бесовщины, той, что захватила не только нашу страну на многие десятилетия, но и расползлась по всему миру. Расползлась и в виде левого и правого экстремизма, и современного терроризма всех мастей, и в форме религиозно-национальных преступлений.
И теперь этот великий роман-предупреждение мы хотели перевести на язык кино и язык современности.
Вот как об этом вспоминал в одном своем интервью сам Элем Климов:
«Я приехал тогда к Юрию Карякину, мы с ним давно дружили. Говорю: «Давай «Бесов» делать…» Оказалось, что я не первый к нему с таким предложением пожаловал. Еще раньше о том же просил Жалакявичюс. Карякин меня спрашивает: «Ты мне скажи, из-за чего ты собираешься делать эту вещь?» Я говорю: «Из-за Ставрогина. – «О, тогда я с тобой…»
Мы поехали в Малеевку, засели за работу. Начали читать всего Достоевского, размышлять, набрасывать сценарий. Возможно, это и помогло мне тогда как-то подняться, распрямиться после всего, что произошло. Работали с таким упоением! Я погрузился в такую пучину – прекрасную, страшную, завораживающую.
Мы выработали конкретный план сценария, написали заявку. Проект наш – не побоюсь этого сказать – был уникальным. И сам фильм, и работа над ним должны были идти необычным путем. У нас предполагался открытый финал, мы не могли его заранее угадать и записать. Финал должен был родиться в результате параллельной работы двух групп – съемочного коллектива и научной лаборатории по изучению человека, неразгаданных тайн его психики. Дело в том, что мы собирались привлечь к работе над картиной специальную группу профессиональных психологов и гипнологов с тем, чтобы исследовать сложнейшие психологические состояния человека.
Но разве могли в Госкино запустить сценарий, финал которого заранее неизвестен?
Вот в это и уперлись. Хотя на этот раз мы постарались не раскрывать все свои карты, обложили заявку ватой и навели должный камуфляж. Но вся эта конспирация нам не помогла. Забодали нас еще на дальних подступах».
Как только мы с Элемом заговорили о киноинтерпретации «Бесов», услыхали (буквально!): «И заикаться, и думать – не смейте! Чтобы эту дрянь (так, так было сказано) – в кино?!» До сих пор храню резолюцию из 12 пунктов бывшего большого идеологического начальника Демичева, согласно которой «советский зритель никогда не увидит «Бесов» ни на сцене, ни в кино».
Запомнился трагикомический эпизод нашего проталкивания идеи экранизации «Бесов». Пошли с Элемом к ответственному работнику ЦК КПСС Вадиму Загладину. Поскольку я работал с ним еще в Праге и сохранил приятельские отношения, то надеялся на подмогу. Принял он нас у себя дома очень дружелюбно и гостеприимно. «Да» и «нет» – не говорил, но сомнения большие высказывал. Я ему об угрозе левого терроризма во всем мире, о бесчинствах «красных бригад»… Соглашается. Но… И тут я напоследок выпалил: «Ну, вам в вашем ЦК не хватает только, чтобы террористы захватили какого-нибудь президента». Ушли.
Прихожу домой – и первое, что вижу в телевизионных новостях: «Террористы в Италии захватили лидера Христианско-демократической партии, бывшего премьер-министра Альдо Моро». Тут же звоню Вадиму: «Поздравляю. Будете ждать еще?.. Финал остается открытым!»
Понятное дело, пробить тогда «Бесов» ни в советском кино, ни в советском театре было невозможно. Но сами-то мы с Элемом от идеи перевода «Бесов» Достоевского на язык кино не отказались. Более того, у меня именно после совместной творческой работы с Элемом сложилась театральная композиция. И я на несколько лет буквально «заболел» темой бесовщины.
Бесы у Достоевского – это не социально-политическая категория, равно как и не религиозно-мистическое понятие, – нет, это художественный образ, образ духовной смуты, означающий сбив и утрату нравственных ориентиров в мире, образ вражды к совести-культуре-жизни, образ смертельно опасной духовно-нравственной эпидемии. Любовь к «человечеству», к «дальним» – вместо любви к человеку, к «ближним», неспособность любить другого, как самого себя, – та же бесовщина (потому и названо: «ад»). Бесы – это и образ людей, одержимых «жаждой скорого подвига», жаждой получить «весь капитал разом», одержимых страстью немедленно и в корне переделать весь мир «по новому штату», вместо того чтобы хоть немного переделать сначала себя.
И нет у Достоевского, в сущности, ни одного социального слоя, группы, «института», ни одного политического движения или духовного учения, которому не угрожали бы свои бесы,– даже в православии их сколько угодно. Да и почти героя ни одного нет, в котором не сидели бы бесы.
Припомним последние сны Раскольникова: «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одержимые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими...» Давно подмечено, что здесь – наметка к «Бесам». Припомним, как тот же Раскольников говорит: «А старушонку ту черт убил, а не я» (потом из этого зерна вырастет разговор Ивана Карамазова с чертом). Припомним, как Достоевский набрасывает (в черновиках) образ Раскольникова: «гордость демонская», «тут злой дух», «весь характер во всей его демонской силе», «бесовская гордость», «гордость сатанинская»... – и дело тут не в повторении слова «бесы», а в сути образа. И то же самое о Свидригайлове: «бес мрачный», «моменты черного духа», «бестиальные и звериные наклонности»... Точно так же и о Ставрогине. Об Алеше Карамазове и то сказано: «бесенок сидит».
Стали мы с Элемом перечитывать произведения Достоевского под этим новым углом зрения и убедились в очевидном, в том, что нет среди них ни одного, где не было бы этой темы бесовщины, не было бы образов бесов.
Вдруг по-новому зазвучали слова Степана Трофимовича, прозревающего перед смертью: «...это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!»
Тут о бесконечной трудности исцеления идет речь, а еще – о круговой поруке, о незримом сговоре всех и всяких бесов – даже тогда (особенно тогда), когда они борются меж собою. Бесы против бесов, бесы изгоняют бесов – и такой есть вариант, и он-то самый опасный, потому что действительно безысходный: получается все более «дурная бесконечность», когда бесы всех видов нуждаются друг в друге, а потому без конца и порождают друг друга. Но признать эту бесконечную трудность исцеления – это и есть первый шаг к нему. А надежду на исцеление Достоевский не оставлял никогда: «Люди могут быть и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей» («Сон смешного человека»). Опять здесь прорывается не просто «неортодоксальная», но «еретическая», даже атеистическая, в сущности, надежда и – мука: «доводы противные» и «жажда верить».
«Великий и милый наш больной» – для Достоевского это, конечно, прежде всего, больше всего Россия, но – тоже конечно – и весь, весь мир. «Великий и милый наш больной» – это же мысль, тон, плач Смешного человека, когда он смотрит на Землю, на всю Землю, когда узнает ее в какой-то «другой планете».
«Великий и милый наш больной» – это и Россия, и русский народ, и вся Земля наша, и весь род человеческий, а бесы – это (подчеркнем) все язвы за все века. Перед нами – высшее художественное обобщение, великий, поистине вселенский художественный образ (и уж конечно, не только, да и не столько изображение нечаевщины или бакунизма 70-х годов XIX века).
Тем временем сама жизнь подбрасывала страшные, трагические сюжеты.
На исходе третьей четверти XX века и II тысячелетия нашей эры случилась «революция красных кхмеров» в Кампучии. Сначала в нашей печати и по телевидению эту «революцию» всячески приветствовали...
17 апреля 1975 года «красные кхмеры» вошли в Пномпень. Был разгар лета, на солнце градусов сорок. Народ ликовал. Вдруг непонятный ледяной ужас охватил, сковал ликующих: лица «освободителей» были холодны, каменны, непроницаемы, преисполнены какой-то мрачной решимости. Дольше всех, конечно, ничего не могли понять дети: для них это был невиданный праздник, они забегали вперед колонн, стараясь вышагивать по-военному, бежали рядом, но их не замечали, а если они попадались под ноги, их, не замечая, – молча, молча – откидывали, отпихивали, наступали на них. А они, не понимая ничего, застывали, замолкали, отползали. Их сменяли другие… Ужас стал еще более непонятным, когда вдруг через зловещие мегафоны послышалось: «Немедленно всем покинуть город! За невыполнение приказа – расстрел на месте. Немедленно всем покинуть город!..» Очевидец рассказывал мне, что от звука этого шел буквально мороз по коже: сам звук казался ледяным… И сотни тысяч людей, не успев почти ничего захватить с собой, были тут же согнаны в колонны, в стадо, и под палящим солнцем, под охраной потянулись по трем дорогам – в «трудовые коммуны», в «земной рай, если уж так это назвали». Стадо и стая. Осуществленный идеал Петруши Верховенского (из «Бесов»). И происходило это на глазах у всего мира. Ведь теперь всё и всем становится известно почти сразу же, а тут и посольства еще не были выдворены (кто-то успел сфотографировать происходящее и даже заснять на кинопленку). Летали спутники и космические корабли. Где находились мы в те часы? Что делали? По обочинам трех дорог валялись трупы убитых и умерших в пути. Город вымер. Ветер носил по улицам миллионы банкнот. Грабежей не было: вся «городская роскошь» (машины, телевизоры, холодильники, часы) была остервенело разбита…
Таких «исходов» не знает и Библия. И даже потрясающий фильм Фрэнсиса Копполы «Апокалипсис» (как раз о Кампучии) кажется после этого кинобеллетристикой. «Один удар – и нет больше классов»…
Так Пномпень навсегда встал рядом с Герникой, Хиросимой, блокадным Ленинградом.
Я понял, что должен увидеть это все своими глазами. Но в те годы я, естественно, был, что, называется, «невыездной», никуда меня не выпускали. Я кинулся в ножки своему старому другу из Международного отдела ЦК Анатолию Черняеву: сделай что хочешь, но помоги мне попасть в Кампучию. И он помог.
В составе делегации ОСНАА (Организации солидарности народов Азии и Африки) в декабре 1979 года, как раз в тот день, когда наши войска (официально – «ограниченный контингент») вошли в Афганистан, я вылетел во Вьетнам. Сначала в северный красный (Ханой), потом в южный, еще не перекрашенный, и, наконец, в Кампучию, в Пномпень.
Вот мои впечатления тех лет:
Утром 4 января 1980 года наш самолет вылетел из Хошимина (бывш. Сайгон) на Пномпень. Граница была видна! Нет, не столбы пограничные: в глаза бросалась почти абсолютно геометрическая, неправдоподобная, нечеловеческая, ненатуральная правильность рисовых полей Кампучии – в отличие от естественной неправильности их во Вьетнаме. Мне разъяснили: «Это всё перекроили, искромсали при «красных кхмерах», по их «плану», не считаясь ни с рельефом, ни с почвой, ни с чем...»
Аэропорт Почентонг. Низкое здание. Очень пустынно. Несколько маленьких сиротливых кучек людей. Сразу захватывает чувство какой-то тягостной неловкости, будто пришел в опустелый, разоренный дом, где только что был погром, были похороны, а ты – в гости...
В автобусе переводчица (с кхмерского на английский), девушка лет 25, говорит мне каким-то бесстрастным, механическим голосом: «У меня были семь братьев и сестер, мама, папа. Их всех убили. Меня тоже почти убили. Но мне теперь хорошо, потому что у нас очень хорошее правительство». Потом, повернувшись к моему соседу, таким же граммофонным, нечеловеческим голосом: «У меня были семь братьев и сестер, мама, папа. Их всех убили. Меня тоже почти убили. Но мне теперь хорошо, потому что у нас очень хорошее правительство». И то же самое, слово в слово, тем же тоном, по очереди,– третьему, четвертому, пятому, всем! О таком – так. А когда она вдруг улыбнулась, это стало еще страшнее: будто улыбается мертвый. Но она оживала, оживала! Я прозвал ее «мисс Ноу», потому что всякий раз на мой вопрос: «Вы устали?» (жара тридцать пять градусов, часов двенадцать-четырнадцать в день на ходу) – она сначала неизменно и испуганно отвечала: «Ноу, ноу, ноу, комрад Юрий!» (а я сам был готов валиться с ног). А потом, задавая ей этот вопрос, я за нее же и отвечал: «Ноу, ноу, ноу...» И она – смеялась. У меня в блокноте написано ее рукой: «Miss So Savy» (ее имя). Бедная счастливая девочка, ей так нравилось, когда ее называли «miss».
Едем в автобусе мимо банка – взорван, взорван остервенело, как твердыня, символ буржуазности. Это взорванное здание – тоже своего рода выставка, выставка в Пномпене против выставки в Лондоне (той, у Достоевского). И вдруг, как никогда остро, «доходит»: вот что значит наяву – бесы против бесов, бесы изгоняют бесов...
Туолсленг. Бывшая школа, при Пол Поте тюрьма, сейчас музей. Классы, превращенные в камеры пыток. Орудия пыток. Ящики для скорпионов (скорпионы предназначались специально для женщин: женщин любили пытать скорпионами). Из многих сотен людей, содержавшихся здесь, уцелели случайно считанные единицы. Сохранились их фотографии, сделанные убийцами. Как в Освенциме. Непонятно: зачем, для кого эта «розница»? откуда этот «орднунг»? Ведь убивали многими тысячами, разом, «оптом». Заставляли вырывать огромную яму, сбрасывали туда живых людей и засыпали (иногда бульдозерами), земля еще долго колыхалась, шевелилась, как живая. А тут... Я почему-то догадался, и потом это подтвердилось: оказывается, тут содержались «особо опасные». Тут главари «красных кхмеров» личные счеты сводили со своими врагами – удовольствие растягивали...
Висят картины пыток, убийств. Подошел автор – очень старый кхмер. Спасся чудом. Не художник. Рисовал самодельными красками. Раньше не рисовал никогда. Но это страшнее самого страшного у Гойи. Тоже ведь хроника. Завещание этого старика, все видевшего своими глазами, все испытавшего на себе,– завещание его своему народу, всему миру. Смерть, безмерность страданий родила в нем художника.
Мне рассказали о другом
старике, художнике по призванию, по
профессии – композиторе. У него произошло
все наоборот: после всего этого он не
мог больше писать музыку, потому что
слышал только один звук, только одну
«мелодию» – стоны, крики пытаемых,
убиваемых людей, слышал днем и ночью,
во сне и наяву, закрывал уши ладонями,
затыкал их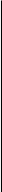 ватой, воском, ходил, сидел, лежал, мотая
головой (даже во сне), пытаясь отогнать,
вырвать, выскрести эти звуки,– не мог.
ватой, воском, ходил, сидел, лежал, мотая
головой (даже во сне), пытаясь отогнать,
вырвать, выскрести эти звуки,– не мог.
Рисунки маленьких кхмеров. В каждом рисунке не солнце, а смерть, смерть, смерть. И это – хроника. Хроникеров просто не успели убить, уморить. <...>
Больше ста лет назад критики подсчитали: в «Бесах» – 13 смертей (7 убийств, 3 самоубийства, 3 человека умерли своей смертью, впрочем, не будь бесов, остались бы жить) и 4 сумасшествия. Подсчитали – и возмутились: сплошное, дескать, кладбище и сумасшедший дом! Клевета на человека, человечество, клевета на самое действительность!..
Простой статистике нашего XX века эти прекраснодушные критики не поверили бы, наверное, ни за что. Не поверили бы, что будут такие «судороги», когда число убитых намного обгонит «естественную смертность», которая покажется недостижимым даром. Не поверили бы, что графа «смертность» окажется слишком неопределенной – что это: расстрел? тюрьма? голод? страх? горе?.. Не поверили бы, что число убийц будет порой превышать самое большое число уголовных преступников всех других разрядов и что профессия палача станет массовой и очень, очень даже высокооплачиваемой... Ко многому, однако, привыкли люди XX века. Но вот Кампучия при «красных кхмерах»: три миллиона погибших из восьми. Три миллиона за три-четыре года. Сталинщина в кубе. Почти половина нации! Но это «всего» 0,066% от 4,5-миллиардного тогдашнего населения Земли – все подсчитано! «Процент!»<...>
Дети-убийцы... .А еще – дети-людоеды. Их научили: убей врага, съешь его печень – и станешь еще храбрей. Я видел мальчишку, который проделал этот ритуал больше двадцати раз: убивал, съедал... В горах, в лесах полпотовцы (некоторые из них подвизались в Сорбонне) взяли поколение несмышленышей и воспитали-выдрессировали из него гигантскую стаю детей-зверей, подростков-волков, привили ей вкус к человечине и – ату! ату! – спустили эту стаю на город, на интеллигенцию, на всех просто нормальных людей. А еще появились дети-безумцы. Нет, не родившиеся такими, а ставшие, сделавшиеся такими от того, что происходило с ними, что происходило на их глазах. Это – как? По какой графе?..
А как по всем этим рубрикам будет выглядеть сводная статистика XX века, статистика-зеркало? И не отшатнутся ли люди от этого зеркала в ужасе: «И это – возможно?! И это – сделали, допустили, не предотвратили – мы?!» А ведь сколько бы ни бояться такого зеркала, а без него – не обойтись. Без него этот век так и сгинет в самообмане. Но с ним, может быть, и достигнет наконец адекватного самосознания и передаст веку следующему правду, пусть самую жестокую, но правду о себе.
Не раз, насмотревшись за день страшных картин и наслушавшись еще более страшных рассказов, мы вспоминали «Бесов» (я захватил с собой два издания романа – английское и французское).
Но мог ли даже Достоевский предвидеть, что его роман окажется своеобразным путеводителем здесь, в Азии, в далекой «провинциальной» стране (о которой он, может быть, даже и не знал), через сто десять лет?
У меня и сейчас звучит в ушах одна и та же фраза на многих языках – от кхмерского до английского,– но с одной и той же интонацией, интонацией неописуемой горечи и какого-то испуганного восхищения, фраза, которую я слышал в Кампучии от всех, кто вспоминал или впервые узнал «Бесов», и которая лет тридцать пять назад родилась и у меня, и у моих друзей: «Не может быть! Не может быть! Откуда он это знал?»
Мы читали ночью обо всем том, что слышали от очевидцев днем, читали о том, следы чего только что видели своими глазами:
«Одна десятая получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать».
Мы читали, как Лямшин, хихикая, острит:
«А я бы вместо рая взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал бы их на воздух».
Читали, как отвечал ему Шигалев:
«...и, может быть, это было бы самым лучшим решением задачи! Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь вам удалось сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали».
А в черновиках к «Бесам» Петр Верховенский говорил так: «Если бы возможно было половину перевешать, я бы очень был рад, остальное пойдет в материал и составит новый народ» (11; 148).
«Новый народ» – это же буквальная формула «красных кхмеров».
Еще (оттуда же): «Ничего нет лучше вот этакого первоначального образования. Самые восприимчивые люди выходят. Грамотностью только раздразнишь, раздражишь. На них-то и славно действовать! Матерьял!» (11; 265).
«Все начнут истреблять друг друга, предания не уцелеют. Капиталы и состояния лопнут, и потом, с обезумевшим после года бунта населением, разом ввести республику, коммунизм и социализм. <...> Если же не согласятся – опять резать их будут, и тем лучше» (11; 278).
Сравни – Пол Пот: «Для строительства нового общества нам достаточно одного миллиона кампучийцев» (убить три из восьми – мало).
Сравни – Мао Пол Поту: «Товарищи, вы одержали блестящую победу. Один удар – и нет больше классов».
Вот что значит, как говорил Степан Трофимович: «Петруша – двигателем»...
…Я бродил по городу, держась солнечной стороны и силясь вообразить себе то, что и как произошло в тот день. И снова и снова не хватало никакого воображения представить реальность, не хватало никакой фантазии признать действительность...
Перед отъездом в Кампучию я, естественно, читал литературу об этой стране, о ее трагедии. Прочитал историю одной женщины, которая, спасаясь от «красных кхмеров», изменила свое имя, как и ее муж и дети. Они пытались скрыться, но, даже не опознанные, угодили в полпотовские лагеря. На ее глазах и на глазах ее старшей дочери был расстрелян муж – просто за то, что он – интеллигент, врач (более чем достаточное основание для смертного приговора), а к тому же он был пойман по доносу на том, что помогал больным и раненым в лагере. Забили и дочь. Две другие умерли «сами по себе», от голода, болезней (но сын – остался). Женщина говорила: «Если бы я не видела всего собственными глазами, если бы не была свидетелем случившейся трагедии, едва ли я поверила бы в возможность этого. В свое время я смотрела фильмы о гитлеровских лагерях. Казалось, такое невозможно в действительности. Но при режиме Пол Пота я сама пережила подобное...» Я прочитал еще, что она собирается писать книгу под названием «Спасение из ада»: «Да, именно так. Потому что это был настоящий ад».
Эта женщина – принцесса Сисоват, двоюродная сестра Нородома Сианука.
Понятно, у меня мелькнула еще в Москве мысль познакомиться с нею, хотя, признаться, я в это мало верил.
Через несколько дней после прибытия в Пномпень я все же решился спросить, нельзя ли ее увидеть. «Как увидеть? Вы же видите ее каждый день с утра до ночи». Оказалось, она работала с нашей делегацией старшей переводчицей, и все ее звали просто «Лиди»...
Мы проговорили с ней полночи. Вот одна ее фраза, записанная мною в блокнот: «В лагере, минутами, я вспоминала любимые книги, спасалась ими, но думала: нет такого писателя, который мог бы, хоть отчасти, вообразить себе все то, что произошло с нами. Это был ад. Это были настоящие бесы. И все их идеи бесовские» (о Достоевском, оказалось, она не слыхала).
Я показал ей те самые страницы из «Бесов», которые мы перечитывали по ночам.
Надо было видеть ее лицо, глаза. Который раз я услышал этот вскрик: «Не может быть! Не может быть! Откуда он это знал?!»
Вскрик этот – как физическая (одинаковая у всех) реакция на удар, на боль.
Помолчав, она спросила: «Когда это написано?» – «В 1870–1872-м». И все с тем же непередаваемым чувством ужаса, горечи, изумления она сказала: «Боже мой! Даже название такое! Мне страшно. Они именно все так и сделали. Если бы у нас раньше была такая книга! Как хорошо, что она есть у вас...»
Что я мог сказать ей, да еще в такой момент? «Как хорошо, что она есть у вас...» У нас есть и «Архипелаг ГУЛАГ».
Горе одного народа не заглушишь горем другого. Достоевский так глубоко зачерпнул в своем народе, в своем времени, что и другие народы, другие времена – себя узнали. Как хорошо, что «Бесы» теперь есть у всех... Бесы всех породнили горем. «Бесы» всех роднят его пониманием.
Я подарил ей роман, надписав: «Моей сестре».
После всех этих встреч, разговоров, картин, «хроник» казалось, что надолго, если не навсегда, пропадет всякое желание заниматься литературоведением. Но в то же время, как никогда раньше, стало ясно: многие наши дискуссионные и принципиальные литературоведческие проблемы, в сущности, давным-давно решены, решены – в чем-то главном – окончательно, решены способом совсем не литературоведческим – в лагерях, в кострах, в «культурных революциях», решены не цитатами – огнем, пулей, мотыгой по голове в качестве решающего аргумента. Трудно понимать Достоевского без книги М.М. Бахтина о нем. Но уж «Бесов»-то вообще нельзя понять (даже, если угодно, и в их «поэтике», в их «форме») без томов Нюрнбергского процесса или вот без таких откровений: «Это не мой метод – уговаривать, упрашивать: отрекись! прими наш символ веры! Много чести! А надо дело поставить так, чтобы каждому и каждый день приходилось выкупать собственную жизнь. Свою единственную и бесценную. Забрать ее как бы в залог – сам вручишь или ее у тебя силой прихватят, не это важно! – и пусть выкупают. Особенно важный взнос – первый. И лучше всего, надежнее всего – детской кровью... С этого начинается нужный нам человек, каким ему быть отныне и вовеки! Чем менее готов к такому шагу, тем интереснее. Прочесть бы его мозги: как изворачивается, как обещает себе и целому миру, что все поправит другими делами – еще верит, что будут какие-то другие. <...> Главное – окунуть в краску с макушкой, а потом можешь отряхиваться! Занятия этого хватит на всю оставшуюся жизнь. От детской крови еще никому просохнуть не удавалось. А кем только себя не воображали!»
Это – Оскар Дирливангер («Каратели» А. Адамовича). Плоть от плоти, кость от кости – Петруша Верховенский.
В черновиках к «Бесам» я нашел такие две темы: матереубийство и детоубийство, причем прямое, а не косвенное какое-нибудь.
«Сын убил мать» (11; 67). Вариант темы: «Мать Успенского (так вначале был обозначен Виргинский.– Ю.К.) узнала об убиении Ш<атова>, хочет донести. (Трагическое лицо). Успенский умоляет ее не доносить. Доносит об ней Комитету, говорят, что надо убить ее. Он умоляет за нее, идет и доказывает на себя» (11; 107).
«...младенцев будут бросать в нужник или есть». Еще: «будут сожигать младенцев». И еще: «Сожжение младенцев обратится в привычку» (11; 181).
Такова логика звериного ума, ума-зверя, логика верховенщины, реализованная в XX веке в самом натуральном виде.
Как никогда, стало ясно: пусть слова такого – «фашизм» – Достоевский не знал, но как социально-психологическое явление– его предвидел, бездуховную сущность его – понял, и «Бесы» – это могучий универсально-антифашистский роман, будь этот фашизм «красным» (Пол Пот) или «коричневым» (Гитлер). Тот и другой одинаково ставят людей только перед одним, реальным и самым предельным, выбором: между жизнью и смертью, между партией жизни и партией смерти.
Полпотовщина – полный, законченный, скоростной цикл развития социальной чумы, политической холеры, идеологического сифилиса – от «микробов в пробирке» (то есть в головах идеологов, в их статьях и книгах) до повальной эпидемии и массовой смерти, от появления идей-»трихин» до воплощения их в карательных экспедициях и трупах. Предельно наглядно и быстро, в «химически чистом виде», она раскрыла тайну всех подобных теорий: все они и есть не что иное, как составление и обоснование возможно более длинных проскрипционных списков, все они исходят из отношения к жизни человека, народа, человечества как к «чистой доске».
Достоевский еще в «Зимних записках о летних впечатлениях» писал о теории «чистой доски», о теории, согласно которой: «почвы нет, народа нет, национальность – это только известная система податей, душа – tabula rasa, вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, обще-человека всемирного, гомункула – стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки». Это было адресовано русским либералам.
Три года спустя он писал о той же теории уже применительно к социалистам: «Учение встряхнуть всё par les quatre coins de la narre («четырьмя углами скатерти»), чтоб, по крайней мере, была tabula rasa для действия», – корней не требует. Все нигилисты суть социалисты. Социализм (а особенно в русской переделке) именно требует отрезания всех связей. Ведь они совершенно уверены, что на tabula rasa они тотчас выстроют рай».
А вот Петрушина tabula rasa: «...горы сровнять – хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева! Не надо образования, довольно науки!» И – сравнивали горы, истребляли цицеронов, коперников, шекспиров.
Недаром Мао уподоблял китайский народ «листу чистой бумаги»: «На первый взгляд – это плохо, на самом деле – хорошо. На листе чистой бумаги ничего нет, на нем можно написать самые новые, самые красивые слова, можно рисовать самые новые, самые красивые картины». «Культурная революция» и была такой «картиной». Уму непостижимо: почти миллиардную нацию, нацию великой культуры, заставляли – во второй половине XX века! – варить дома чугун, истреблять воробьев,– десятки миллионов людей днем и ночью бегали по полям с трещотками, чтобы не давать воробьям приземлиться, чтобы они передохли от усталости. Они и передохли, а поля, не защищенные от вредителей, погибали. И, как этих воробьев, гоняли, избивали интеллигенцию, натравливая на нее хунвейбинов, и поля культуры тоже почти вымерли.
Отсюда ведь, отсюда, из теории «чистой доски», и родилось: «Один удар – и нет больше классов». Один «мазок» по «чистому листу бумаги» – и нет трех миллионов.
«Чистая доска» – это и есть пока еще безымянный, незаполненный, так сказать, «алгебраический» проскрипционный список (самый длинный из всех возможных). Но дайте срок – и эти «алгебраические» знаки («новый народ») превратятся сначала в знаки «арифметические» («достаточно одного миллиона»; «не страшно, если останется и треть населения»), а последние– в конкретные имена, в реальные жизни реальных людей, которых будут превращать в трупы, сначала в розницу, потом оптом.
«Чистая доска» – значит: нет законов природы и нет законов человеческой природы, нет истории природы и нет истории человечества, нет истории народов, наций, племен, нет истории культуры. А раз нет – значит: считаться абсолютно не с чем.
На «чистой доске» можно рисовать только одной «краской» – кровью, и «художники» здесь – только убийцы, только каратели жизни.
И жизнь как «чистая доска» означает лишь одно: «чистить»-карать будут самое жизнь.
Tabula rasa есть carte blanche смерти.
Все это до ужаса – немыслимо – просто, когда все осуществилось. Все это кажется немыслимо сложным, неисповедимым, пока дело только замышляется, пока оно только идет, крадется к этому.
Но сверлит одна и та же мысль: а если бы те, кто идет за бесами по молодости лет, по наивности, неопытности, глупости, «отвлеченности», кому нравятся все эти чумные, холерные, сифилитические микробы (когда смотришь на них, так сказать, в микроскоп: ах, какие они там красивенькие, какие «орнаментальные»!), если бы увидели они уже простым, невооруженным глазом все отвратительные язвы, рожденные этими красивенькими микробами, увидели бы горы трупов, если бы связались в их сознании, в их чувствах все начала и все концы болезни,– то неужели бы не отпрянули они в ужасе и гневе? Неужели оказались бы только перед одним выбором: быть убитыми или убивать самим? Стать жертвой или палачом? Или есть другой выбор? Возможно ли в самом зародыше распознать отвратительную, смертельную болезнь и уже в зародыше – выжигать ее, не то поздно будет? Прививка, прививка нужна от заразы. И прививка эта – прежде всего – правда о заразе.
«Жестокий талант», «Не за тех бесов вы ухватились» – такие отметки, как учитель взбалмошному ученику, выставил прекраснодушнейший (в данном случае) Михайловский – Достоевскому. Воскресни он сегодня, взгляни, «не отвертываясь», на сталинщину, на недавний Китай и недавнюю Кампучию,– да неужели не взял бы он своих слов обратно? Есть ли, в конце концов, более высокий, точный, решающий критерий истины (в том числе и художественной), чем жизнь и смерть рода человеческого? Или – пусть погибнет мир (от бесов), а формула «Не за тех...» все равно, все равно верна?! За тех! За тех, которые уже извели многие миллионы людей и которые, будь их воля, уподобили бы всю Землю самолету (образ, рожденный ими самими), а человечество – заложнику, угрожая ему гибелью, если не согласится оно на «безграничное повиновение» им, бесам. За тех, которые собираются заменить завтра пластиковые бомбы на атомные и уже не выкрадывать отдельных премьеров и президентов, а разом захватывать и взрывать парламенты и советы министров – это грозит, к этому идет! За тех, которые провоцируют сегодня таранное самоубийственное столкновение двух систем. За тех, за которых еще «ухватились» Герцен и Щедрин...
А еще приходит вдруг такая мысль: воскресить бы всех людей, погибших от бесов, да их и опросить: за тех или не за тех? Им – кому ж еще? – решающее слово. Но их нет, значит, слово это – за нашей памятью о них, за нашей волей ответить на вопрос: сколько же еще миллионов должны угробить бесы, чтобы стали наконец понятны предупреждения нашего великого соотечественника?
...Я стою на окраине Пномпеня, возле маленькой ямы, наскоро вырытой и наскоро набитой проломленными, снесенными человечьими черепами, почему-то одними черепами. С полпотовщины прошел год, а следы такие – еще повсюду. По углам ямы – четыре прутика-палки. Рядом, на пустыре, в клубах пыли, мальчишки с криками гоняют тряпичный мячик (футбол был запрещен «красными кхмерами» под угрозой смерти). Яма сверху – метр на метр. Упорно соображаю: сколько в глубину? Метра полтора, не больше: глубже одному человеку не выкопать – негде развернуться, чтоб выбрасывать землю. Нет, пожалуй, метр. Тупо считаю: сколько там черепов? Ничего не могу с собой поделать: не уйду, пока не буду знать, будто от этого зависит что-то самое-самое важное. Не могу сосредоточиться. Почему-то вспоминаю, как в начале июля, в прошлом году, в Москве, мне позвонили и сказали: Ш. погибла (она была дочерью моего друга). Я не знал, что делать, как вдруг позвонили снова, и оказалось, что я ослышался: погибла не она, другая, тоже на «Ш» (жена другого моего друга). И не в букве дело, а фамилии уж очень созвучны. И вот с тех пор я не могу избавиться от жуткой мысли-западни: будто оттого, ослышался я или не ослышался, и зависело, кто из них остался бы жить... Начинаю считать сначала. Сбиваюсь, Наконец досчитываюсь. Сверху шестнадцать. Надо помножить на десять-одиннадцать. Выходит 160–176. Никогда бы не поверил, что столько людей в такой маленькой яме. 160–176 человечьих черепов, таких, как у меня, у всех у нас, у Христа, Шекспира, Пушкина, это же все равно, все равно. Кто они, эти 160–176? Кто – каждый из них? В каждом черепе был мозг, а там – мечты, мозг выбили, вытряхнули, растекся, сгнил. У каждого черепа снесенного было лицо, на лице глаза, улыбка, боль. А я даже не знаю, 160 или 176. Тоже «арифметика». И та неточная. Один череп совсем маленький, явно детский, лицеистский, а внизу, может, их и больше. «Мисс Ноу» несколько раз мягко тянет меня за рукав рубахи. Машинально вижу, как мальчишки играют, но почему-то не слышу их криков, будто кто-то выключил звук. И точно так же Петруша и Пушкина бы череп снес, и Пушкина бы мозг вытряхнул, а если б знал, что из Пушкина выйдет, то снес и вытряхнул бы еще и в Лицее, как раз после державинского благословенья. Вот и вся полифония. А он, Пушкин, чего боялся? «Не дай мне Бог сойти с ума...» Дай! дай сойти! Я ничего не понимаю. Не понимаю, зачем, действительно, они все были, зачем нужны эти Шекспиры, Шиллеры, зачем – Пушкин, Достоевский со своими «Бесами», со своим «уличным пением»? Какой, к черту, Макбет, какой Борис Годунов, какая слезинка ребенка – кто за что ответил? кого какая гложет совесть? кто в чем покаялся? Зачем, кому нужны мы все, живые, если мы это не предотвратили, если это было, было и было, везде, всегда, в Европе, в Америке, в Китае, не надо далеко летать, возвращайся да оглянись. Твой же родной дядя, брат мамы, испанской войны герой, убит в 37-м, где его могила? А после лагерей рассказывал: «Ни о чем так не мечтал, как об одном: чтоб комнатка своя, и занавеска на окне обязательно, хочу закрою, хочу открою, и чтоб чай с малиновым вареньем, и никто не вмешивался...» Да что там, хватит, капля в море, не горем же хвастаться, вон М.М. Бахтину повезло, в ссылке счетоводом работал, экая беда – гений счетоводом, да он никогда и не жаловался, вроде Ивана Денисовича. А сам ты вообще как сыр в масле катался, подумаешь – из аспирантуры выгнали на два месяца, да пригрозил этот: «Годом раньше, быть бы вам лагерной пылью...» Курам на смех. «Быть бы» – условное наклонение, а сколько миллионов не условным наклонением в пыль превратили, нелюди, нелюди. А теперь– «Надо перепрыгнуть через поколение двадцатого съезда», а то, мол, мы так развратились, так развратились от этого проклятого 56-го года (от одной миллионной доли правды развратились, вот какие мы развратники)... Яма, яма, яма. Какая яма? Вспомнил – какая. Которую Пьер Безухов созерцал в оцепенении. Так разве это яма? Разве там убийство? Эк, сравнил. Там еще гуманизм, эстетика. Там расстрельщики-французы стеснялись. А в России в девятнадцатом веке один палач нарасхват был, как его?.. Перед отлетом Адамович дал «Карателей» прочесть, в рукописи – неужто напечатают? А у него еще присказка о Сталине есть, называется: «Дублер». Все одно и то же... И все это где-то есть, есть и есть, и все это снова, снова и снова где-то может быть, и все это непременно где-то будет еще, и еще, и еще. Все абсолютно бессмысленно. Где-то там, как на другой планете, в другом времени, кипят – в вате, в тумане – какие-то дискуссии, интриги... полифония – не полифония, есть самообман – нет самообмана... Ах, не упрощайте, не упрощайте, ах, все сложнее, все тоньше, относительнее... Все вопросы погашены. Все абсолютно опостылело. Знаю, знаю: все равно нельзя так думать, нельзя так чувствовать. Не положено. А почему, собственно, нельзя? Кем, кем не положено? А если всей Земле этой череп снесут, череп снесем? Кому хоронить? Куда хоронить? Вот смешно-то: нерешенным останется вопрос: можно или нет ставить «Бесов» в театре или в кино? А еще вот беда: кто-то кого-то недозаклеймит. Кто-то на кого-то недостучит. Кто-то недотрусит, А кто-то кого-то не успеет обскакать в карьере. Опоздает, бедненький. Всего, всего на пять минут опоздает. Ему и всеобщего спасенья не надо, если там счеты с кем-то свои не сведет. Зато ему и всеобщая смерть не страшна, если до нее исхитрится их свести, если успеет кому-то отомстить за собственное ничтожество. Homo sapiens!.. А кто-то недолюбит. Кто-то недодумает, недопишет, недоговорит мысли, слова такой невозможной красоты, что... Я ничего, ничего не понимаю в эти минуты, когда времени нет. И вдруг понимаю все. Понимаю, что так больше нельзя, так дальше нельзя. Вот что не положено. Понимаю и, может быть, впервые: «Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера?.. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце – и посмотрите на него, разве оно не мертвец? Всюду мертво, и всюду мертвецы». Так?
А вот это – так: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину – не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки»? Это –– так? Так? А если я тоже видел истину? И прежде видел, и сейчас вижу. И не живой ее образ, а мертвый. Труп я ее вижу. И не труп, а череп. Пустой череп истины. Вдруг спохватываюсь: конечно, конечно, яма все-таки меньше метра. Она же сверху рылась, а не изнутри. Я в другом месте, около Туолсленга, видел, как рыл такую же один кхмер, слабый-слабый, кожа да кости, я еще подумал: у них и сил нет рыть глубоко. Значит, их меньше, меньше там, может, на целую треть, а может, и наполовину! Какое-то опять жуткое чувство: будто именно от моего подсчета все и зависит сейчас, зависит – жить или не жить этой трети, этой половине или – другой. Я ошибусь, а им как?.. Тряпичный мячик попадает вдруг прямо в яму. Мальчишки весело вытаскивают его. Оцепенение проходит. Все вокруг становится оглушительно громким, будто опять кто-то включил звук, включил время. Мы с «мисс Ноу» идем к автобусу...
Потом, ночью, запишу все это бессвязно в блокнот: «У ЯМЫ. ХРОНИКА ТРЕХ МИНУТ». Последняя запись: «Абсолютная безнадежность – нет у меня таких слов (их вообще, наверно, нет), чтоб рассказать обо всем этом. Хотя одно-то слово знаю уже точно, с 54-го года знаю: не постой за волосок, головы не станет...»
Очутившись в Кампучии, я, как никогда, остро, словно бы физически, понял то, что, казалось, понимал и раньше. Ведь понимал, когда писал о маоизме, имея в виду и сталинщину: не может быть горе другого народа предлогом для намека на горе свое, понял, что такая аллюзия безнравственна. И «кампучийский сюжет» здесь мне хотелось описать так, как я его и тогда понимал, и сейчас понимаю: как страшную беду, разыгравшуюся на глазах всего мира. Кому какое дело было до маленьких кампучийцев?.. Не думать о своем я, конечно, не мог, но кампучийское (как раньше и китайское) тоже вдруг стало своим – тем более что мы через все это прошли первыми.
И еще об одном. Как раз накануне моего отлета в Кампучию наши войска вошли в Афганистан. В своем кампучийском блокноте я нашел такую запись: «Ч. об Афганистане: “Не понимаю – кому это надо? зачем? и что из этого выйдет?”» А на XIX конференции выяснилось, что даже некоторые члены Политбюро не были уведомлены об этой акции. Однако можно быть уверенным: и у афганской войны будут (наверное, уже есть) свои хроникеры.
Вывод? Как никогда, нам нужна честная хроника всей нашей жизни, хроника жизни всей страны, а сегодняшней жизни – особенно.
Все эти мысли остались на бумаге. Снять кино «Бесы» с Элемом Климовым нам так и не удалось. Хотя помнится, что когда польский режиссер Анджей Вайда узнал о замысле Климова, то отказался от своего кинопроекта «Бесы». Не хотел перебегать дорогу своему русскому другу.
Но со временем Элем охладел к идее снимать Достоевского. Когда наступили новые времена и он стал Первым секретарем Союза кинематографистов новой России, совершив в годы перестройки свою знаменитую «революцию» в нашем кино, я попытался убедить его вернуться к «Бесам». Но сначала он был слишком занят организационными делами, поездками по миру. Потом загорелся идеей снять булгаковского «Мастера и Маргариту». Чудилось ему, что это будет совсем новое кино. Идей и придумок, как всегда, было не счесть. Долго искал источники финансирования… и как-то все выдохлось.
Наши встречи стали редкими. Перезванивались. Я всякий раз пытался убедить его, что «Бесы» станут настоящим кино, на века. Не удавалось. Так и остались «Бесы» неснятым кино. Прекрасные замыслы не осуществились. А в 2005 году Элем ушел из жизни.
АЛЕСЬ АДАМОВИЧ.
БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУЖБА – СУДЬБА
Алесь ворвался в мою жизнь стремительно и напористо. Познакомил меня с ним Элем Климов в конце 70-х. Они тогда работали над тем самым фильмом о партизанской войне в Белоруссии, о котором я уже писал, – «Убейте Гитлера». На экраны он вышел только в годы перестройки под названием «Иди и смотри».
ФОТО № 40
В то время я все больше погружался в проблемы ядерной и экологической угрозы человечеству, и именно в этом нашел в Адамовиче самого заинтересованного собеседника и соратника. С годами он стал для меня самым близким другом вплоть до его совершенно неожиданной кончины, случившейся на заседании Верховного суда 26 января 1994 года.
Обычно, приезжая из Минска, Алесь появлялся в моей восьмиметровой клетушке на Перекопской (Новые Черемушки) и, едва устроившись в единственном кресле между стеллажами книг, столом и топчаном, немедленно требовал: «Ну, давай все новое, что появилось и что стоит прочитать. Поговорим потом». Тут же погружался в чтение, иногда на многие часы. Поражала в нем ненасытность, живое восприятие всякого нового слова и немедленная отдача. Мозг его был устроен так, что, едва переварив новые идеи, толкал его обладателя к собственным формулировкам, к сотворчеству и творчеству. А при фантастической его, Алеся, работоспособности, результат не медлил сказаться. Порой я посмеивался: «Алесь, да с тобой вообще опасно говорить. Тебе скажи что-нибудь, а завтра прочтешь в газете».
Но в действительности ревности и разногласий у нас не возникало. Разные темпераменты. Я – стайер, программирую себя на длинные дистанции. Этим всегда оправдывал свое бесконечное затягивание всякой публикации. Алесь – партизанский спринтер. Сказал, как выстрелил, и… немедленный результат: публикация статьи в газете.
Правда, возникали у нас поначалу расхождения по одному традиционному русскому вопросу: пить или не пить?
Всем было известно, что Алесь (Александр Михайлович) Адамович пьет только молоко и кефир, лишь иногда позволяя себе стакан некрепкого чая. Я ему не раз говорил: «Алесь, ты умница и замечательный человек, а если б ты еще и выпивал – цены бы тебе не было». В ответ получал: «Каряка, ты тоже не дурак, но тебе цены не было бы, если бы ты вообще не пил».
И нередко в качестве убойного аргумента припоминал мне историю, которая приключилась в самом начале нашего знакомства. Впрочем, он и это умудрился описать. Потому привожу первоисточник. История называется – «За спичками».
«…В гостинице «Академической», где я обычно останавливаюсь, навестил меня мой друг-философ. Позавтракали на этаже. Вернулись в комнату, закурить самое время, ан спичек-то нет. Он направился в буфет, а я стал собираться в город, по делам. Жду-пожду, нету моего гостя. Час минул, второй, я уселся работать, ничего другого не оставалось. Раз-другой пробежался по соседним этажам. Пропал в гостинице человек, как в густом лесу. Его тугой портфель – вот он стоит, а так бы уже стал думать, что вовсе и не приходил ко мне этот тип. Целый день до вечера его прождал. В Америку, что ли, уплыл? Вот это пошел за спичками! И ночь подступила. Разбудил телефон:
– Это не ваш тут товарищ?
– Мой! Мой! – заорал я.
– Приходите, он возле стола дежурной.
Выбежал полуодетый, будто боялся, что он снова уплывет. Нет, основательно уселся на диване и качает права: требует, чтобы дежурная извинилась. Видите ли, оскорбила, посчитав их пьяными. «Их»… у стола стоял какой-то вьетнамец и радостно улыбался советским друзьям.
Ну что приключилось, рассказывай! Забыл номер комнаты, вместо 31-го заглянул в 13-й. Там у вьетнамца на столе была бутылочка и еще запасец. Вот и поговорили, правда, на каком языке – непонятно».
Мне трудно согласиться с Алесем. Конечно, у меня не раз бывали нелады со временем, но здесь, полагаю, разыгралось воображение моего друга-писателя.
Так вот, серьезные расхождения между нами в главном вопросе для всякого русского человека не помешали тем не менее нам проводить порой дни и ночи напролет в разговорах, чтении, обсуждении…
Помнится, мы оба страшно увлеклись книгой американского журналиста-философа Донатана Шелла «Судьба Земли». В годы перестройки мы познакомились с ним., когда он приехал в Москву. Подолгу бывал и у Алеся дома, и у меня, стали друзьями..
Все было нам созвучно в его книге: осознание того, что технологически стала реальной опасность уничтожения Земли и самого человечества, очень четко прописанная ядерная угроза, в том числе новая, смертельно опасная возможность ядерного терроризма и, конечно, глобальные экологические проблемы. Мы сами, насколько удавалось, писали об этом, главным образом, в журнале «ХХ век и мир», который возглавлял Анатолий Беляев. Этот маленький, весьма неброский журнальчик, орган Советского Фонда мира, стал тогда прибежищем сторонников «нового мышления». За нами с Адамовичем прочно закрепилось – «пацифисты», «абстрактные гуманисты». Но мы продолжали упорно долбить свое: ядерная угроза и нарастающие проблемы экологические требуют от всех понять: мир уже нельзя делить на два лагеря. Человечество находится в одной лодке. Судьба его и Земли зависит от всех нас.
Конечно, каждый из нас писал по-своему. Свою главную итоговую статью на эту тему – «Не опоздать! (Одна посылка – бесконечность следствий)» – я привожу в Приложении.
Как-то долго говорили втроем – Алесь, я и еще один мой очень близкий друг, Юра Давыдов. Я цитировал по памяти (и потому неточно) Толстого. Потом, придя домой, нашел нужную цитату и немедленно написал Алесю письмо . Недавно отыскалось оно в моих бумагах . Вот и решил представить его как образчик нашей бесконечной совместной работы.
«18. VIII/ 83.
Алесь, вот тебе та цитата
«Жизнь наша дурная. Отчего? Оттого, что люди дурно живут. А дурно живут оттого, что люди плохи. Как же помочь этому делу? Переделать всех плохих в хороших людей так, чтобы они жили хорошо, мы никак не можем, потому что все люди не в нашей власти. Но нет ли среди всех людей таких, которые бы были в нашей власти и которых бы могли переделывать из плохих в хороших? Поищем. Если хоть одного такого мы переделаем из дурного в хорошего, то все-таки на одного меньше будет плохих людей...»
Перебью цитату. Он, наверное, все-таки мудрец, сознательно переделывающийся в «простака».
Продолжу:
«А если каждый человек переделает так хоть по одному человеку, то уже и вовсе хорошо будет. Поищем же, нет ли такого хоть одного человека, над которым мы были бы властны и могли бы переделать из дурного в хорошего? Глядь, один есть».
Опять перебью: это словечко «глядь» и выдает гениальное переделыванье в «простака». А какая в этом отрывке драматургия, какое напряжение, какое озадачивание и неотразимое вовлечение читателя в разгадывание главной загадки жизни.
«Глядь, один есть. Правда, очень плохой, но зато он уж весь в моей власти, могу делать с ним, что хочу».
Тут большинство полагает (я проверял!), что речь пойдет о собственных детях. Ан – нет:
«Плохой этот человек – я сам. И как ни плох он (!), он весь в моей власти! Давай же возьмусь за него, авось и сделаю из него человека. А сделает каждый то же самое над тем одним, над кем он властен, и станут все люди хорошими, перестанут жить дурно. А перестанут жить дурно, и жизнь станет хорошая. Так вот что не худо бы помнить всякому».
Все это как нельзя лучше относится ко всей твоей книге и ко всей нашей теме-идее (у тебя, помнится, почти так и кончается – очень похожим обращением из Скобелева).
А еще мне кажется, что действительно два самых хороших эпиграфа ко всей работе были бы:
1) «Весь мир погибнет, если я остановлюсь».
2) И этот, что привел выше.
Между ними – свое напряжение.
А ту цитату из Шелла, о которой мы говорили («сидим спокойно за столом, а там…»), все равно можно куда-то в начало для ожога.
Но где-то, по-моему (может быть, в конце), надо сказать: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь» – раньше так мог сказать только гений, сейчас так должен сказать (сиречъ, сделать) каждый и уж, во всяком случае, каждый писатель.
Когда ты ушел, мы с Юрой Давыдовым еще поболтали и вот до чего доболтались:
1) Нe впускает наша башка, тысячелетиями к этому приученная, мысли о смерти рода человеческого, мысли об окончательной смерти его.
Это – понятно. Это просто так и есть.
2) Но вот в чем главная загвоздка. Эту-то мысль кое-как втемяшить людям можно – фактами вроде шелловских. Но она, эта мысль, провоцирует, вызывает другую, с которой человек нынешний никак примириться не хочет, не может, не в силах: как же так? значит он (я, мы), человек нынешний, давно уже, всю жизнь свою десятилетнюю и многотысячную не так жил?!... Я?! МЫ?! И – НЕ ТАК?! НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ!...
А в итоге – кошмар: смерть (и то бишь спасение) человечества всего упирается просто... в самолюбие, в тщеславие.. Как я, Амлинский, я, такой-то растакой-то, не то писал, не о том писал! Да я, да меня, да меня все в Европе знают, а ты, а вы…
Глупость раньше была вроде как бы и невменяемой (что с глупого взять?). Глупость сейчас (а может, и раньше так было, и всегда так было – просто не замечали, в глаза не бросалось, не доходило?), глупость сейчас, при столкновении с вопросом о жизни и смерти человечества есть грех и порок, не меньший, чем бесчестность и корысть. А то выходит обычно: глупость простительна, а бесчестность, корысть – нет. Глупость, мол, невменяема... Хуюшки: вменяема! Дурак нынче тоже смертельно опасен.
И все эти амлинские стали, помимо всего прочего, дураками – из-за своего тщеславия, хапанья и пр.
Но злиться все равно нельзя. Сами-то мы давно ли до мыслей нынешних дошли? Не опоздали ли, по меньшей мере, на четверть века?
И наша ошибка (нерасчет) в том и состояла, что невольно думали: вот мы им скажем и все согласятся, все признают истину, все начнут... Впредь, вероятно, УПОР надо делать на ПУТЬ, которым люди приходят к осознанию опасности, – не «абличатъ» (любимое пародийное словечко, придуманное Достоевским), а подводить человека к осознанию новой страшной опасности».
Письмо тут явно обрывается. Сохранился лишь один листочек второй машинописной копии. Но и из этого кусочка, по-моему, видно, что работали мы самозабвенно.
Осенью 83-го Алесь пригласил меня в Минск на конференцию, посвященную проблемам войны и мира. Много там было официальщины. Но было и два потрясения: прежде всего – Василь Быков, которого я, конечно, читал, но увидел живьем впервые. Могучая личность, сильная воля, детская открытость. И второе, конечно, – Хатынь. Повесть Адамовича «Я из огненной деревни» обожгла в свое время многих. Именно эта повесть дала толчок к созданию, быть может, самого значительного фильма двух мастеров – Адамовича и Климова, «Иди и смотри». Но увидеть Хатынь (страшный мемориал) своими глазами, узнать, прочувствовать, что 209 городов Белоруссии было уничтожено, 9200 деревень сожжено, из них 628 – вместе со всеми жителями, что каждого четвертого белоруса унесла война, убил фашизм – это было самое сильное потрясение. Запомнилось еще одно. Уже тогда Алесь, быть может, одним из первых заговорил о новой страшной угрозе – о распространении фашистских идей среди комсомольской молодежи. Казалось бы, в Белоруссии, больше всего пострадавшей от фашизма, такое невозможно. Но он, Адамович, удивительно чуткий барометр, писатель, для которого совесть-память определяла все и толкала к созданию новой «сверхлитературы» (по его определению) – одна его «Блокадная книга» в соавторстве с Даниилом Граниным чего стоит! – именно он, Адамович, увидел первым и заговорил о красно-коричневой чуме.
Некоторые свои мысли-чувства об Алесе собрал в статью к его 60-летнему юбилею (Опубликована статья была в сентябре 1987 г. в «Литературной газете». Даю ее в сокращении).
«Признать главное – главным»
«Всякую вещь свою писать так, словно она у тебя последняя и больше не представится случая “сказать все” – это великий завет великой литературы».
Алесь Адамович
Алесь Адамович – человек несомненно одержимый. Чем? – Как пробить, пронзить, прожечь сердца людские беспощадной памятью о войне минувшей, беспощадной правдой о войне грозящей, чтобы взорвать наше воображение и побудить к неотлагаемому действию, к поступку. Его путь подтверждает: искренность, мужество, совестливость, верность правде, ненависть к собственной бездарности – вот что делает писателя все талантливее (так же как лицемерие, трусость, сделки с совестью, самопрощение и самолюбование – обездаривают).
Бывает: встретил знакомого, приятеля. друга даже, и он – о том. о сем, и все из самого неглавного. Обычное, впрочем, дело. Могу засвидетельствовать: у Адамовича так не бывает. Вернее, бывает так: выслушав «положенное», он тут же налегает оводом и впивается, жалит тебя: что нового надумал, написал, услыхал, прочел? Где? Дай! Покажи! Нет, не потом – сейчас!.. Если б он еще при этом не был способен подтрунивать над собой (и если бы нельзя было подтрунивать над ним), я бы его, пожалуй, побаивался. Но зная, чем он занят, можно лишь удивляться этой его способности.
«Страшнее книги я не читал» – сказано о небывалом репортаже «Я из огненной деревни...». И такие же слова несчетно повторяются о «Карателях» и о «Блокадной». Книги эти вызывают духовный, буквально физический ожог, который уже не залечить, не заживить ничем.
Ленинградские блокадные дети, повзрослевшие – постаревшие – на третьем-четвертом году («даже волосики росли на лице»), разучившиеся плакать и улыбаться.
Обезумевшая мать, потерявшая ребенка: завернула неразорвавшийся снаряд в шаль, укачивает, не отдает.
Юра Рябинкин. русский мальчик гениальной совести. Его дневник (дневник Подростка, которого и сам Достоевский не мог вообразить).
Белорусский малыш – загнали в сарай, чтобы стечь: «Глазки наши будут выскакивать».
Сжигали людей и в церкви. Огонь гудел. Огонь был такой силы, что люди, дети летали там, в церкви.
А в XIX веке один литературный герой не хотел в рай идти – из-за слезинки ребенка.
Невозможно жить с такси правдой? А без нее? Без нее вообще смерть грозит. Это ведь еще «Хиросима обычными средствами».
И вот они, каратели, вот их механизм поголовной мобилизации на войну – ВЗРОСЛЫХ ПРОТИВ ДЕТЕЙ. «А надо построить дело так, чтобы каждому и каждый день приходилось выкупать собственную жизнь. Особенно важный взнос – первый. И лучше всего – детской кровью. Главное – окунуть в краску с макушкой, а потом можешь отряхиваться!».
«Страшно читать». Конечно. Страшно читать даже день-два. даже час. Страницу – и то страшно. А работать, писать – 11 лет? А сначала разыскать 500 человек, выслушать их, записывать за ними? Собрать эту мозаику из кровоточащих кусков?
Читаешь – и вдруг: все они, истребленные. поднимаются из разбросанных, безымянных, неизвестных могил, восстают из развеянного пепла и – нет, не заговорили: все они – и дети – молча смотрят на нас. Что нам сказать им, которые остались тогда, там – вместо нас? Стало быть: мы здесь, сейчас – вместо них...
А представить себе: не возьмись человек за эту страшную работу, не возьмись за нее безотлагательно, не поддержи его братски другие – Я. Брыль, В. Колесник, Д. Гранин, – не было бы o нас ни «Огненной деревни», ни «Карателей», ни «Блокадной книги». Никто ведь не принуждал, просто совесть не могла иначе.
Книги эти – подвиг.
Говорят: да, правда у Адамовича предельная. А с художественностью как?
Сначала послушаем его самого: «Мысль о документальной книге пришла как результат поражения – литературного. Есть, оказывается, правда, необходимая, большая, которую литература, однако, не в силах не только выразить вполне, но и просто вобрать, удержать. (Во всяком случае, не сразу это может.) Самые что ни есть современные материалы не могут вон удержать ядерную плазму – испаряются. Так и формы литературные в пар превращаются от соприкосновения с огненной памятью Хатыней... Мы такую правду на себя обрушили, что не до литературы стало».
Но «документалистика» эта и есть особая литература, хотя. право, говорить специально о ее художественности очень трудно – по такой же простой причине. по какой трудно говорить о художественности набата, возвещающего о смертельной опасности: не в концерт же приглашены. А в конце концов художественность и есть работающая совесть писателя, пробуждающая совесть людей.
У Адамовича трезвое самосознание, он отдает себе ясный отчет в своей известной односторонности (может быть, особенно потому, что он еще – и сильный критик). Вот его определение доминанты своего творчества: «сознаешь себя не столько «художником», а тем более «поэтом» сколько летописцем, свидетелем и еще «проповедником»... Вот бы действительно написать литературное произведение, где ты всему хозяин – ты и твоя фантазия, свободная, летящая, никому и ничему не обязанная. Увидеть ту самую доминанту далеко, далеко внизу!» Он не испугался опубликовать отзыв В. Распутина (из личного письма) о «Карателях»: «Ну хотя бы глоток воздуха!..» А после этих слов так сказал о последних рассказах самого В. Распутина: «это тот самый “воздух”, пронизанный солнцем, светом...»
Согласимся. Поймем все это и как его самозадание. Но не забудем, вдумаемся: в тех же «Карателях» есть свет, свет мужества, – в образе автора.
В 1962 году А. Адамович отметил: «Каждый, кто пишет, знает тот главный толчок, тот эпицентр в жизни, который сделал его литератором. Для меня и многих моих одногодков это, прежде всего, Отечественная война...» Сейчас, безусловно, надо сказать и о другом толчке, другом эпицентре. Он сам и сказал: «Не убий человечество!» (Это сегодня – главный «штрих» его деятельности.) <...>
Адамович любит мужественную мысль Л. Толстого, верен ей: чтобы переплыть бурную реку, надо «брать выше». А «брать выше» для него сегодня – это: «Не обязательно гением быть, чтобы ощутить внутренний, неотменимый приказ: не останавливайся, не имеешь права, и именно ты, а иначе, мир погибнет!»
И веришь, и сомнения .нет ни малейшего: говорится это не элоквенции ради: это его кредо, заповедь, исповедь. Без этого не хочет он писать, не может – разучился. Жить не может. Без этого дезертиром бы себя проклял. Одна мысль его жжет: успеть! успеть отдать! И какое-то брезгливое непонимание (или горькое недоумение?) вызывают у него те, кто и сейчас лелеет одно чувство, растравляет его: недовзял! мне недодали, меня недооценили, недонаградили... Каков тут тщеславие, когда о таком идет речь?
Не до ордена,
Была бы родина...
Было б человечество.
Но, по правде говоря, многие ли из нас могут сейчас выдержать испытание на гаком оселке? Другого же – нет.
А. Адамович прав: сама жизнь сейчас словно начиталась Достоевского – настолько оправдались, утысячерились мучившие его тревоги. Но тем более – как нуждаемся мы все в тысячекратном усилении «самого простого», пушкинского: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Или: «Говорят, что несчастие хорошая школа: может быть. Но счастие есть лучший университет»... И как хотелось бы наконец сказать: сама жизнь начиталась Пушкина! Значит: спасена.
…А еще через год и опять ко дню рождения моего друга у меня неожиданно написалось стихотворение. Прекрасно сознавая все его несовершенство, хочу тем не менее поместить его в книгу в память о дорогом мне Алесе, без которого жить стало труднее, будто у меня самого лопнула главная пружина. Вот они, эти вирши.
ПОТОМ ДОГОВОРИМ
Посвящается Алесю Адамовичу
Неужто начали мы умирать нормально?
Нормально значит: натурально, естественно, без
Пули в лоб, без выстрела в затылок, оболганные.
Не в лагерях, не в пыточных подвалах,
Безмогильно и безымянно.
Да если правду всю сказать: как нам похоронить
Зараз, да и запомнить почти сто миллионов?
Непосильный труд!
Другое дело – убивать и быть убитыми.
А крематорий был один на всю страну,
Как Кремль Московский, где объявили истину врагом…
Неужто начали мы умирать нормально?
Нормально значит: натурально, естественно, без
Лжи большой друг другу (в глаза иль за глаза),
Хотя и без большой любви.
Без пыток истиной казаться стала полуправда,
Полусвобода и полулюбовь. Все не так просто? О, конечно!
Все проще! Просто боимся этого мы знать.
Смирившись со своею смертью, надеемся,
Что правнуки ходить к нам станут на могилу
Хоть раз в году, а может быть, и чаще.
Быт входит в колею.
Земля нам будет пухом.
Ведь заодно с собой – тогда –
Мы ранили ее смертельно и обманули,
Похоже – так.
Но вдруг узнали: Жизнь умирает.
А еще раньше – разлюбили, не заметив – как.
Чего ж нам ждать? От ран она могла б еще
Оправиться. Но, оказалось: чахнет Жизнь ото лжи
И гаснет медленно, когда ее не любят,
А узнали мы обо всем об этом, не опоздав,
Как раз за пять минут до срока, назначенного нами,
И – объявили истину секретом, не подлежащим –
Пониманью. Но что там? Тише! Нас подслушивает кто-то…
Ах, это дети! Играют в прятки… Все равно –
Отложим разговор.
Потом договорим…
9 сентября 1988 года
…В годы перестройки и в начале 90-х уже в новой России наши жизни с Алесем переплелись уж вовсе накрепко. Обоих вынесло в политику. Оба стали депутатами Съезда народных депутатов СССР. Вместе включились, и очень активно, в общественную и политическую борьбу. Участвовали в создании общества «Мемориал», Межрегиональной группы – первой оппозиционной политической партии. Вместе создавали новую по форме общественную организацию – «Московскую трибуну». Часто вместе выступали по радио и телевидению. В августовские дни 1991 и в октябре 1993-го были рядом. В 1990-м оба отправились в Нью-Порт (США) на первую американо-российскую встречу «Апокалипсис». И почти одновременно, с разрывом в два года, схлопотали инфаркты. А потом еще, правда совсем на короткое время, стали соседями по Переделкину. Но обо всем этом речь впереди.
Сюда предлагаю дать новую главку о «новом мышлении», о работе над глобалистикой и о том, как с Юлием Кимом работали над спектаклем «Ной и его сыновья».
МОЕ ВХОЖДЕНИЕ В ПОЛИТИКУ
Публицистские баталии
Ну что, генералиссимус прекрасный,
потомки, говоришь, к тебе пристрастны?
Их не угомонить, не упросить...
Одни тебя мордуют и поносят,
другие всё малюют, и возносят,
и молятся, и жаждут воскресить.
Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной...
Уж не от крови ль красная она,
которую ты пригоршнями пролил,
пока свои усы блаженно холил,
Москву обозревая из окна?
Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны –
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счета не веду былым потерям,
но, пусть в своем возмездье и умерен,
я не прощаю, помня о былом.
Булат Окуджава
Мое вхождение в политику началось с публицистики.
Пожалуй, самыми знаменитыми из перестроечных статей оказались две – «Стоит ли наступать на грабли» («Знамя», 1987, № 9) и «Ждановская жидкость» («Огонек», № 19, 1988).
История первой статьи была такова.
В первых трех номерах журнала «Дон» за 1987 год Борис Можаев (мой давний и очень хороший друг) опубликовал роман «Мужики и бабы», роман острый, честный, – о нашей деревне, которую автор знал прекрасно. Время было еще неопределенное, куда повернет вся эта «перестройка» и «гласность»? И если в Москве уже чувствовалось, что время перемен грядет неодолимо, в провинции все еще царили и заправляли партийные начальники. Сын Жданова, того, чье имя если и войдет в историю, то только как душителя Зощенко и Ахматовой, того, кто обрек Ленинград на голодную блокаду, так вот его сын – Юрий Жданов, именовавший себя философом и бывший, кажется, ректором в Ростовском университете, решил дать бой, по примеру папеньки, теперь уже другому писателю – Можаеву. Он написал в редакцию «Дона» клеветнически-оскорбительное письмо в адрес автора романа, явно уверенный в том, что по его велению и роман и автор будут немедленно изничтожены.
ФОТО № 34
Борис Можаев и редакция «Дона» предложили мне на страницах журнала ответить Жданову. Но пока я писал, хитрован Жданов, учуяв ветры перемен из Москвы, вдруг написал в редакцию второе письмо, в котором, виляя и труся, «отозвал» свое письмо, потому что – по его словам – «теперь не время ударять» по Можаеву. Видно, посоветовался с кем-то из Москвы.
Вот тут я уже разозлился всерьез и решил сам дать бой этому папенькину сынку и иже с ним. Сказалась «бульдожья хватка», как посмеивается моя жена Ира. Засел за работу всерьез. Как всегда, делал бесчисленное количество вариантов. В какой-то момент Можаев не выдержал, видимо потеряв надежду на то, что ответ его «оппоненту» вообще когда-либо увидит свет. Когда статью закончил, было ясно, что печатать ее надо не в ростовском журнале «Дон», а в Москве, где к тому времени и «Московские новости», и «Огонек», да и толстые журналы «Новый мир» и «Знамя» стали буквально хлебом насущным для москвичей, и не только. Статья получилась большая, Егор Яковлев при всем нашем с ним сотрудничестве и понимании в своей газете («Московские новости») напечатать не смог. В родном моем журнале «Новый мир» что-то не сложилось. Но неожиданно для меня быстро и оперативно все сделал Григорий Бакланов. Впрочем, много лет спустя я так написал об этом в рубрике журнала «Однажды в “Знамени”»… в его юбилейном (70 лет!) номере:
Буду крайне эгоцентричен: мало кто помог мне вернуть веру в себя, как «Знамя», т.е. Григорий Бакланов. Я имею в виду статью «Стоит ли наступать на грабли?» (1987, № 9). Писал я ее в упоении и в негодовании (разумеется, на самого себя). Вариантов было чуть ли не тридцать. Речь шла о романе Б. Можаева «Мужики и бабы».
Принес сначала в самую распрогрессивнейшую газету. Отказ. Отнес в самый распрогрессивнейший журнал. Отказ. С горя пошел в ЦДЛ.
Вдруг на Цветном бульваре вижу – «Знамя» (а накануне я поссорился с главным редактором Г. Баклановым). Думаю: дай зайду, небось тоже выдворят. Отдал. Часа через два – звонок жене: статья немедленно идет в ближайший номер. (Писем-откликов на статью было не меньше тысячи. Время было глуповато-восторженное.)
Г, Бакланову дана была милость не трусить не только на войне, но и в мире. Вспомните хотя бы его выступление на XIX партконференции (1988), когда он один противостоял всему залу.
Ему и его заму В. Лакшину я бесконечно благодарен за понимание, сочувствие и помощь.
– Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Борис Пастернак
Редакция одного журнала попросила меня ответить на письмо своего читателя о романе Б. Можаева «Мужики и бабы» – с тем, чтобы опубликовать это письмо и мой ответ вместе. Просьбу я выполнил. Обе вещи ушли в набор. И вдруг мне сообщили: читатель от письма своего отказался, заявив, что он «погорячился», «поспешил» и что «сейчас не время ударять по Можаеву»…
Казалось бы, я должен быть вполне удовлетворен, тем более что в моем ответе была главка – «Придется взять свои слова обратно», и, кроме того, там говорилось: «Как Вы относитесь к гласности? Будем предельно конкретными. Я, например, обеими руками голосую за публикацию Вашего письма. А Вы за мое – проголосуете?»
Как видим, мой оппонент проголосовал даже против своего.
Возникла головоломка. Если против своего –значит, тем самым – за мое? Но зачем мое, если он от своего отказался? Но если отказался, выходит – я прав вдвойне?.. Ну и что? Он подтвердил мою двойную правоту и лишил меня возможности о ней сказать. Великолепная дебютная находка: он сделал два хода подряд и, не дав мне сделать ни одного, сдал партию.
Но вот вопрос: сдал ли? А может быть, только отложил? Судите сами.
Все дело в одном нюансе: Вас оскорбили (а письмо о Можаеве, как убедимся, есть прямое оскорбление, и я принял его и на свой счет). Вас оскорбили, Вас вызвали на «дуэль». Вы принимаете вызов, являетесь и вдруг узнаете, да еще через третьих лиц: велено передать, что Вас «ударять» сейчас – не время, подождите…
Прибавьте к этому, что сначала автор письма (лицо весьма ответственное) выдвинул перед редакцией настоящий ультиматум, заявив: или вы меня напечатаете, или… И дальше были пущены в ход достаточно весомые политико-идеологические и организационные угрозы.
Прибавьте еще: он постарался, чтобы о его первом «ходе» знало как можно больше людей, а о втором – как можно меньше.
И еще: поскольку в свое время автор опубликовал немало столь же своеобразных писем в адрес других людей, можно ли его отказ от своего последнего письма считать отказом и от предыдущих? А если так, то почему бы не сделать это тоже публично?
Пока я размышлял над этой головоломкой, выяснилось, что в ряде журналов и даже газет произошли точно такие же странные истории, но уже с другими авторами – других писем – и о Можаеве, и о других писателях. Оказалось: десятки разоблачительных ультиматумов тоже были срочно востребованы обратно. Оказалось: все их авторы тоже «погорячились». Оказалось: явление это стало типичным.
И тут-то я понял наконец, что головоломная задача – разрешима. Я решил объединить все эти истории в одну, то есть пойти навстречу всем этим авторам, открывшим, независимо друг от друга, упомянутую дебютную новинку: я обозначил их всех одним именем – Инкогнито, каковым каждый из них и пожелал быть.
Я решил горячо поддержать их в этом небывалом для нашего отечества начинании – забирать такие письма обратно. Я решил доказать им, что в этом своем начинании они в тысячу раз более правы, чем им даже кажется. Я решил, наконец, всячески споспешествовать тому, чтобы это начинание расширилось и превратилось в настоящее массовое движение со своими этапами. Этап первый: немедленно забрать свои эпистолы обратно, раз уж они посланы. Этап второй (переходный): не писать и не посылать таких эпистол, чтобы потом от них не отказываться. Этап третий (пока весьма утопический): вообще никаких гадостей по отношению к ближнему своему не замышлять.
Мы знаем великие почины, когда люди стремятся сделать как можно больше добра, почему бы не быть и такому почину, когда люди будут стремиться сделать хотя бы чуточку меньше зла?
Что касается Инкогнито, то он создан здесь или, точнее, воспроизведен по закону типизации, собирательности образа, но образа не художественного (это мне и не по силам), а документального.
Очень прошу читателей не искать за моим Инкогнито никаких конкретных – «вот этих» – людей, а, напротив, искать за ним именно других, похожих, но которые еще не включились в новое движение, с тем, чтобы уже сами читатели помогли им в него включиться.
Добавлю еще, что я совершенно убежден: будь мой Инкогнито сегодня, что называется, у власти со всеми своими прежними «горячими» убеждениями, он бы свое письмо – опубликовал, а мое – ни за что. Но смею уверить: я бы и в этом случае ни за что бы от своего не отрекся, потому что слишком уж хорошо знаю, что означает такая власть и для культуры, и для народа, и для всего нашего общества, потому что слишком уж серьезные вопросы поставлены сегодня перед нами.
Конечно, я бы все-таки не решился публиковать это письмо, если бы хоть на одно мгновение поверил в искренность моего оппонента, когда он объяснил отказ от своего ультиматума «торопливостью» и «горячностью», и если бы не расслышал в его фразе «сейчас не время ударять» мечту о том времени, когда можно будет снова – «ударять».
Я и публикую это письмо в надежде содействовать тому, чтобы такое время не наступило больше уже никогда.
Письмо написано до того, как я узнал, что мой партнер взял свой «ход» обратно. Я ничего не менял в нем, только уничтожил все прямо узнаваемые признаки Инкогнито и прибавил количество его цитат (с соответствующим комментарием).
И последнее. Я сейчас не анализирую упоминаемые здесь художественные произведения (и, естественно, оставляю за собой право на несогласие с ними по каким-то пунктам). Говорю здесь не столько о «высоких материях», сколько о самых элементарных условиях нашей духовной жизни.
<...>
ФОТО 118
Письмо Ваше обрадовало меня чрезвычайно. Чем? Своим органическим бессилием в защите дела неправого. А это бессилие выражается как в том, о чем Вы умалчиваете, так и в том, на каком уровне Вы ведете полемику.
Почему была прервана перестройка, начавшаяся в 56-м? Причин много. Одна из них – хорошо организованная травля писателей, осмелившихся сказать правду о серьезных болезнях нашего общества.
Что грозит перестройке сегодняшней? Угроз опять много. И опять одна из них – попытка организации подобной же травли.
Вы помните, кто и как травил В. Дудинцева за его роман «Не хлебом единым»? Забыли? Напомню. «Любителей» была масса, многие тогда «разлакомились» (по слову Достоевского), и один из них – Вы.
Именно Вам принадлежит статья, где этот роман был подвергнут разгрому (точно такими же приемами, какими сегодня Вы громите Можаева). К этому времени авторы поретивее уже расправились с Дудинцевым. Он был избит. А Вы? Вы лишь добивали, добивали – лежачего. Вот цитаты:
«Советская действительность отображена в романе односторонне, однобоко и потому неправильно. Верность деталей картины не спасает от того, что в целом она фальшива». И, конечно, следует Ваш классический ярлык: «огульное охаивание»…
Врач ставит диагноз: опасная болезнь, смертельно опасная… А ему в ответ: «огульное охаивание»… Чего «охаивание»? Организма? Самой болезни?.. Вас бы в медицину. Вы б вообще запретили все диагнозы серьезных болезней, полагая, что таким путем разом исчезнут и сами эти болезни. У Вас и в социальных заболеваниях виновата социальная диагностика, особенно ранняя…
<…>
А помните, какую травлю Вы устроили Евгению Евтушенко за его стихотворение «Наследники Сталина», уже после того, как в печати вообще исчезли даже упоминания о XX и XXII съездах?
А сколько лет Вы отучали (не отучили) Андрея Вознесенского от «абстрактного гуманизма», который Вы ухитрились отыскать в таких двух строчках:
Все прогрессы реакционны,
Если рушится человек.
Вы ненавидели эту формулу, как личного врага. И до сих пор – ненавидите?
А Василий Шукшин, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Андрей Тарковский, Элем Климов, Алексей Герман и еще десятки таких – ведь на то, чтобы не дать им писать, петь, говорить, рисовать, показывать правду, Вы, конкретный гуманист, затратили, наверное, сил не меньше, чем те Ваши двойники, которые хотели повернуть северные реки вспять.
Или всего этого – не было?
Или говорить об этом – тоже «огульное охаивание»?
И, уж конечно, Ваша травля этих людей – не «огульное охаивание»?
Все знают: хриплый голос Высоцкого – от природы. Но мне казалось и тогда, когда он был жив, и теперь еще больше кажется: голос его оттого такой, что Вы певца за горло держали.
Мне судьба – до последней черты, до креста
Спорить до хрипоты (а за ней – немота),
Убеждать и доказывать с пеной у рта,
что – не то это вовсе, не тот и не та!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить – не хочу, –
На ослабленном нерве я не зазвучу –
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!..
Мало кто из художников столь надежно поддерживал веру в духовное возрождение страны, как Булат Окуджава и Владимир Высоцкий. Только один пел тихо, печально, мудро, а второй – неистово, гневно, хохоча и плача. Один словно и не замечал Вас, второй – дразнил, и оба – презирали и – ничуть не боялись. Зато – как боялись их Вы, как ненавидели (а какая-то частица и Вашего существа, я убежден, даже завидовала – и этой тихой благородной уверенности, и этому безоглядному отчаянному напору).
Начало всем подвигам – «нравственный устой», подвиг правды. («Без этого нравственного устоя, – говорил Достоевский, – и рубль не поправится».)
И вот перестройка сегодняшняя. Она ведь начинается с себя, не так ли? Так почему бы и Вам не начать с себя? Рассказали бы (особенно – юным) о своем соучастии в травле Дудинцева, Паустовского, Пастернака, Цветаевой (всех не перечесть). Или Вы это до сих пор «подвигом» своим считаете? Ну, что ж, так об этом прямо и скажите: вон, мол, еще когда за мной какие подвиги числились, а теперь я на новый – синхронно – иду. Помните Ганчука из «Дома на набережной» Ю. Трифонова? Помните, как он источником всех бед наших считал, что в 28-м году кого-то не добил до конца? Вот и Вы такую же оплошность допустили…
Рвусь из сил – и из всех сухожилий,
Но сегодня – не так, как вчера:
Обложили меня, обложили –
Но остались ни с чем егеря!..
<...>
Я напомню Вам то, что Вы знаете, наверное, получше меня. А. А. Жданов в 46-м году взял героев Зощенко, приписал их взгляды автору и пришел к умозаключениям, имевшим самое практическое воздействие на судьбу этого автора:
«Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта… Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения, и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?.. Только подонки литературы могут создавать подобные “произведения”… Зощенко с его омерзительной моралью… Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку… Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко… Какой вывод следует из этого?.. Пусть убирается из советской литературы».
Похоже? Так Вы эти, что ли, порядки хотите возродить? По таким временам – ностальгия? И схема разноса одна и та же: взгляды героев приписаны автору, и ярлык политический, как гиря к ногам…
<...>
«А ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ ОПИСАТЬ?»
Герой Можаева утверждает: «Я не хочу, чтобы после этого скачка, о котором ты говоришь, через полсотни или сотню лет в народе говорили о нем так же, как говорят до сих пор о главном деле Петра: “Петербургу быть пусту”. Сколько полегло народу в этих болотах на постройке новой столицы? Миллионы! И что же? Искусственность этой столицы даже через двести лет сказалась. Нельзя гнуть историю, как палку через колено».
Ваша оценка: «И это – о городе Ленина, о городе революции!»
Но ведь это уже почти плагиат – у А. А. Жданова, который писал: «Для Зощенко, Ахматовой и им подобных Ленинград советский не дорог». Но полноте, не пугайте ни себя, ни других. Не о городе Ленина, не о городе революции речь, а о том, что делали с историей народа нашего, что делали с этим городом, то есть с людьми этого города:
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И, когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
Спрашивается: было всё это или не было? Кто это творил? Никто? Вы не жили тогда в Ленинграде? Да если бы и не жили – неужто не заметили, не слыхали? Неужто забыли? И неужто экспедиция Запорожца в Ленинград с такими подонками, как Шарок-младший, экспедиция – по приказу Сталина, – ничего не напомнила? Вам за город Ленина, за город революции – не больно? Ни тогда, ни теперь?
Вы когда-нибудь задумывались над словами: «Предательство – замороженная память» (О. Мандельштам)?
А заметили Вы, что Вас возмущают именно те, кто об этом говорит, и абсолютно не трогают те, кто это делал? Возмущает не преступление, а его раскрытие! Но отвлечемся от Вас.
Существует поразительное внутреннее созвучие: «Мужики и бабы» – «Реквием» Ахматовой…
Наверное, такого созвучия и не может не быть у всех, для кого беда народная – стала своей.
«В страшные годы ежовщины я простояла семнадцать месяцев в тюремных очередях. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
– А это вы можете описать?
И я сказала:
– Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».
«Анна Ахматова является одним из представителей безыдейного реакционного литературного болота. Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, безыдейной, аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. Акмеисты представляли из себя крайне индивидуалистическое направление в искусстве. Они проповедовали теорию “искусства для искусства”, “красоты ради самой красоты”, знать ничего не хотели о народе, о его нуждах и интересах, об общественной жизни» (А. А. Жданов)…
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
«Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ничего, кроме вреда» (А. А. Жданов)…
Какой жуткий скрип – во время звучания высокой, трагической музыки. Но ведь в действительности все было несравненно хуже. И все-таки – победила эта музыка.
Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли.
И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».
Хотелось бы всех поименно назвать.
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов…
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня.
«Реквием» Ахматовой – беспримерен. Может быть, и во всей мировой культуре – беспримерен.
Самое непостижимое: он был создан прямо тогда (1935–1940 гг.). Небывалая стенограмма небывалой боли и – небывалого подвига.
(А еще сохранились многие страницы другой небывалой стенограммы – самогo создания «Реквиема» и спасения его, страницы, написанные друзьями Ахматовой.)
Не герою великому, не отдельному лицу он посвящен – народу целому.
Не «черный человек» – сам «стомильонный народ» и заказал его.
Это поистине народный «Реквием»: плач по народу, средоточие всей боли его, воплощение его надежды.
Впитав в себя эту боль, воплотив эту надежду, Ахматова и сделалась народным поэтом.
Это – русский «Реквием», русская «Лакримоза», русский образ скорбящей Матери и Жены.
«Реквием» – победа, только не в избито-казенном («от победы к победе»), а в старинно-русском смысле этого слова: одоление беды (пo беде)… Ахматова победила: она первая воздвигла памятник всем жертвам беззаконий еще в момент торжества этих беззаконий. Сначала это был памятник тайный. Теперь мы все можем видеть его – и начинаем понимать, что он воздвигнут навечно.
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать…
Ахматова первая и начала искать этот бесконечный – поименный – список (не о цифрах же только речь). И если есть у нас совесть, может ли она смириться с тем, что восстановить его полностью уже почти невозможно?
<…>
Неужели для Вас и «Реквием», и «По праву памяти» тоже «огульное охаивание»? Неужели сама боль народа, сам стон от этой боли для Вас тоже «клевета на действительность»? А письма те – о безвестных могилах, о Мемориале? А тот вопрос – ахматовской женщины с голубыми губами?.. Это не глас народа?
А. А. Жданов клеймил Ахматову, не зная (а если б знал?), что «Реквием» был уже написан, не зная, что одиннадцать человек уже прочли его, и ни один не выдал. Ни одного Иуды. Вас это не вдохновляет? А если да, то на что вдохновляет?..
Недавно Вы настаивали на том, чтобы «поднять А. А. Жданова», подтвердить и актуализировать принципы критики в адрес журналов «Звезда» и «Ленинград», то есть, говоря конкретнее, в адрес Зощенко и Ахматовой.
Хотел бы я знать, как Вы это сделаете.
Переиздадите все доклады А. А. Жданова по литературе, искусству, музыке, философии? То есть запретите все, что запретил он? Или будете выпускать сочинения Зощенко и Ахматовой только с его предисловием? И музыку Шостаковича прикажете исполнять с одним непременным условием: перед ее исполнением зачитывать изречения А. А. Жданова? Или, может быть, на памятнике Гегелю в Берлине выбьете золотом: «Вопрос о Гегеле давно решен»? А может быть, в соответствии с этим открытием снова сократите спецкурс по Гегелю впятеро, как это и было сделано на философском факультете МГУ в 48-м году? Или еще: напротив будущего памятника Ахматовой, за установление которого выступает «распустившаяся общественность», поставите другой памятник, и что на нем напишете?
<…>
Вернемся к главному пункту Вашего письма. Перечитаем:
«Ведь это Гитлер считал Ленинград городом искусственным и думал его задушить, опустошить (быть пусту!) и утопить! Какая странная компания: реакционные попы, славянофилы, Гитлер, белофинны… Надо ли попадать в такую компанию?»
Где, когда это происходит? В «Покаянии»? Это ведь там человек обвиняется (и признается) в том, что он по заданию какой-то разведки, чуть ли тоже не белофинской, рыл секретный канал из Бомбея в Лондон (под Россией).
Неужели Вы и в самом деле не отдаете себе отчет в том, что такое письмо в 37-м году стоило бы человеку жизни, а в 46-м, да и в 56-м – отлучения от литературы (и то в лучшем случае)?
Но в 87-м году – уж извините-с, как говаривали в старину, – отвечать за такие письма придется уже самим их авторам, отвечать придется не тем, кого оклеветали (как бывало слишком часто), а тем, кто оклеветал (как будет, хочется верить, отныне и навсегда).
Вас подвел старый расчет, старая привычка злую шутку сыграла: никто, мол, не посмеет, никто не успеет разобраться, а ярлык прилипнет, не оторвешь. Конечно, кого тут оторопь но возьмет? Да и стал бы кто-нибудь разбираться в том же 37-м году в таких тонкостях, как неточное цитирование, когда дан лозунг дальнейшего неуклонного обострения классовой борьбы? А если б и стал, кто бы этому поверил, кто бы это проверил и к чему бы это привело?
Но сейчас-то, сейчас другие времена, другие погоды, а Вы все еще старыми приемами действуете. Вот Ваш главный просчет. Более чем убежден: Вам придется взять свои слова обратно. Но вот вопрос: интересно, как Вы их объясните? Чем? Своей сверхлюбовью к народу? Сверхпринципиальностью? Сверхбдительностью? Ну, не легкомыслием же, торопливостью или невежеством? В таких-то делах, в таких-то званиях, в таких-то чинах. Ведь такое признание здесь самоотставке равно, импичменту добровольному.
<...>
За тридцать с лишним лет Вы не упустили ни одного шанса сорвать попытки обновления страны, зато не воспользовались ни одним, чтобы их – поддержать.
(Надеюсь, читатель не забыл, что мой Инкогнито – это не один конкретный человек, а тип социальный.)
Хотя бы один-единственный благородный, самоотверженный порыв, поступок: эх, будь что будет, а я хоть раз, да все скажу, что наболело…
И намека нет. А почему? Да потому, что ничего и не наболело, ничего и не болело. Точнее: все боли, все страхи – только за себя, только за свое. Откуда же тут взяться порыву? Вместо порыва – с вожделением расставить капканы и ждать-выжидать в засаде, пока кто-то в них попадется, ошибется, и – разоблачить! Разоблачить, чтобы угробить главное дело. А если не случится ошибки, то придумать ее, приписать и все-таки – разоблачить! И в этом все Ваше геройство – на совестливых людей капканы ставить и облавы на них устраивать…
<…>
Понимаете: если прислушаться, то во всем Вашем стиле, в языке, в самoм Вашем грозном тоне, во всех Ваших анафемах давно уже слышится какая-то непоправимая неуверенность, вялость, которую не может скрыть никакая наигранная «принципиальность», «непримиримость», «верность основам». Вместо энтузиазма искренней ошибки, вместо страсти воинствующего невежества, вместо страшной воли побеждающего зла – почти машинальное вранье, усталое и растерянное. Все слова Ваши уже выдохлись, поскучнели, одряхлели. И чем они грознее, тем смешнее. Знак долгожданный…
Вы обнажили внутреннее бессилие всего того дела, которое защищаете.
Вы тем самым подтверждаете внутреннюю силу и перспективность того дела, которое ни понять, ни принять вы не хотите, да уже и не можете.
Это дело по праву названо сегодня – революцией.
И уже многие люди (их становится все больше) могут, преодолевая скептицизм, равнодушие, усталость, суетность, – могут наконец-то снова сказать с чистой совестью и – говорят:
Это действительно революция. И это – м о я ре в о л ю ц и я. Стало быть, и от меня зависит. Не только и не столько надо ждать помощи от нее, сколько – самому помогать ей. Не просить о ее приходе, а идти ей навстречу. Мы дождались ее начала – значит, ее и надо делать самому, на своем месте, в своем деле. Исчезает, наконец, невыносимое, противоестественное, обессиливающее раздвоение между тем, что твердо знаешь сам, что видишь вокруг своими глазами, о чем думаешь про себя, и тем, что слышишь «сверху», что читаешь в газетах, что талдычит тебе невежественный указчик, чем пугает тебя твой собственный внутренний цензор. И самое, самое главное теперь, решающее – это моя ответственность, моя смелость, а еще больше, оказывается, мой «ликбез» – и в социализме, и в демократии, и в истории, и в политике, а особенно – в экономике и праве… Оглянемся назад, вглядимся в прошлое (оно ведь в нас и сегодня), но не для самоуничижения или самовосхваления, а для честного труда самопознания, чтобы выработать, наконец, трезвое, адекватное самосознание: кто мы есть, чтo можем, чтo должны сделать. Не забыв ни одного поражения, не забудем и ни одной победы (и цену каждой победы – не забудем). Назовем все вещи своими именами: ошибки – ошибками, преступления – преступлениями, подвиги – подвигами… Предстоит и началась уже небывалая мобилизация всех сил народных для небывалой перестройки всей нашей жизни. И не к нам ли особенно относятся слова Герцена: «У вас не будет последователей, пока вы не научитесь переменять кровь в жилах»… Гласность должна вести и привести к согласию, к согласию по главным, первоочередным вопросам – чтo делать, но она оставляет постоянно открытыми вопросы – как делать, как лучше делать то, чего нельзя не делать… Теперь есть только один счет, по пословице: «ищи не в селе – ищи в себе», а если случится беда, то – тем более: винить уже больше будет некого, кроме самих себя. Виноваты будут уже не противники обновления, а его сторонники, не столько «они», сколько мы сами. Другой такой шанс исторический не повторится, не подарится нам никем. История прошлого – необратима. Но живая история зависит от нас. Живая история не роман: пишется без черновиков и не знает переизданий, зато альтернативна, зато дает реальный, животрепещущий, неотложный выбор, зато всегда – развилка дорог. А сегодня этот выбор, как никогда, жесток. Сегодня эта развилка не между «хорошим» и «лучшим», не просто между «хорошим» и «плохим», а между – быть или не быть: стране нашей, миру всему… Но сколько вдруг открывается твоих единомышленников (самых разных профессий) и как радостно (а часто и с горечью) они – с полуслова – узнают друг друга, находят общий язык, берутся за общее дело и, кажется, уже без всякого прекраснодушия, без иллюзий, трезво, не «на авось», а в расчете на очень долгий, очень сложный, очень тяжелый, но главное – вдохновенный, совестливый труд.
<...>
По правде сказать (я это и сам только вот сейчас до конца понял), я совсем не к Вам — внутренне — адресуюсь, а к тем юным людям, которые по Вашим поступкам станут судить обо всем нашем поколении. Гордость вдруг за свое поколение вспыхнула. Оно себя еще далеко не исчерпало.
Мы усваиваем наконец главный урок всей истории, а нашей особенно: не постой за волосок — головы не станет.
Чего я хочу? То есть чего я хочу добиться этим письмом?
Ну, не счеты же с Вами сводить. Право, мне совсем было не до Вас, когда я получил Ваше письмо. Свои бы долги успеть заплатить.
Счеты сводить — Ваша профессия, Ваше призвание, именины Вашего сердца. Хочу лишь одного, самого простого, самого малого: не желаете, не можете работать сами — не мешайте работать другим.
Хочу не больше этого, но и не меньше (представляю: чего бы Вы захотели, будь на то Ваша воля и власть).
Я неверующий, но почему-то пo сердцу мне заповедь предков: согрешил — покайся. И как обнадеживает достоинство тех людей, которые ошибаются в поисках истины и — первыми признают ошибку, как только в ней убедились, признают — искренне, открыто, красиво (потому что заняты не собой, а делом, работой). Но что же это за взрыв такой мутационный произошел в Ваших генах духовных, если Вы исповедуете: греши и — не кайся! и чем больше грешишь — тем больше и не кайся!..
Наверное, тут все дело в том или ином отношении к двум древним и вечным истинам.
Первая: смертны же мы все.
Вторая: и после нас будут люди.
С чем придем мы к своему последнему часу?
И чтo скажут нам вслед?
А времени у нашего с Вами поколения остается совсем уже мало.
Вторая статья, «“Ждановская жидкость”, или против очернительства», напечатанная в майском номере (1988 года) журнала «Огонек», стала естественным продолжением первой. Может быть, первый раз в жизни написал статью быстро и понес к Виталию Коротичу, с которым лично тогда даже не был знаком. В редакции его уже не оказалось. Взял домашний адрес и рванул.
И в доме его произошел забавный казус. Влетел, не обратив внимания, что к лифту прошла какая-то женщина, которую явно сопровождала охрана. Оказался с ней в лифте. Едем на один и тот же этаж. Батюшки! Это же Раиса Горбачева! И тут у меня залетела совершенно шальная идиотская мысль, так что я не смог удержаться от смеха, чем вызвал, мягко говоря, недоумение спутницы. А мысль такая: вот сейчас возьму в заложницы жену Первого секретаря и освобожу лишь при условии: немедленно напечатать статью «Ждановская жидкость». Не пришлось брать в заложницы эту замечательно элегантную женщину. Принял ее Коротич. Принял и меня. Статью взял и напечатал очень быстро.
ФОТО 019
Моральная тягота разрядилась.
Столбы подрублены, заборы повалятся сами…
А. А. Жданов
Успеете наахаться,
И воя, и кляня,
Я научу шарахаться
Вас, смелых, от меня.
Анна Ахматова
Всего год назад требование освободить ЛГУ от имени, которое носит он вот уже сорок лет, казалось немыслимым «потрясением основ», а сегодня оно пробилось даже в газеты. Здесь тоже знамение нашего времени, необыкновенно быстро расставляющего, наконец, все по своим местам. Да, необыкновенно быстро, если смотреть назад, однако все еще слишком медленно, если смотреть вперед. Вот и имя это по-прежнему красуется на ЛГУ. Требование есть, освобождения нет. Даже согласие есть – на словах, а на деле – скрытое, упорное и вполне осознанное сопротивление. Тоже знак «текущего момента». Московский университет – имени Ломоносова, Ленинградский – имени Жданова. Или Жданов и есть Ломоносов XX века?.. И по-прежнему выпускники получают дипломы с этим именем. По-прежнему вчерашние школьники старательно выводят его в своих заявлениях: «Прошу принять меня…»
В 1946 году, когда Жданов организовал погром Ахматовой и Зощенко, родилась у исстрадавшихся от него ленинградцев (или припомнилась им еще с 34–35-х годов?) невеселая шутка, грозившая шутникам, в случае доноса, немалым «сроком» (а могло быть и того хуже). Дело в том, что была в прошлом веке так называемая «ждановская жидкость», которой заглушали, забивали трупный запах (об этом есть и в предпоследней главе «Идиота»). Ну и, совершенно натурально, «жидкость», которой Жданов «кропил» культуру, люди, помнившие историю, не могли не прозвать «ждановской». Только она, в отличие от прежней, сама была смертельной, трупной, сама смердела, а выдавалась за идеологический нектар. К шутке той можно отнести опять ахматовское:
За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне б свинцовую горошину
От того секретаря.
Кощунство? Очернительство? Очернительство человека, о котором всего два года назад центральная газета писала: «Имя его хранится в памяти народной»?..
25 сентября 1936 года из Сочи в Москву, в Политбюро, пришла телеграмма-молния: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ ОПОЗДАЛ В ЭТОМ ДЕЛЕ НА 4 ГОДА. Об этом говорят все партработники и большинство представителей НКВД». И две подписи: Сталин, Жданов.
Эта сочинская телеграмма-молния – одна из самых кровавых депеш в истории нашей и общечеловеческой: сигнал к 37-му году. Если бы соавторы этой телеграммы сами писали родившиеся из нее бесчисленные арестантские повестки и приговоры, сами арестовывали людей, сами их допрашивали и пытали, забивали и расстреливали, сами закапывали и сжигали трупы, а потом еще, снова и снова, проделывали то же самое – с родственниками и детьми убитых (и с детьми этих детей), – сколько миллионов дней понадобилось бы им для всего этого? Им понадобилось бы – бессмертие. Бессмертие для уничтожения живых людей. Бессмертие для распространения смерти…
Тут что еще поражает? «Не на высоте…» Это – проговорка. Их представление о высоте измерялось потоками пролитой крови. Мало им было крови в 29–33-х годах. Мало и в 34–36-х. Уровень, график назначенной, нужной им высоты и вычерчивала тройка: Ягода, Ежов, Берия.
У Ягоды, расстрелянного за то, что он «оказался не на высоте», был маленький сын, Гарик. Затерявшийся в кровавой сутолоке, прежде чем окончательно и бесследно исчезнуть, он сумел послать своей бабушке несколько писем, начинавшихся одинаково: «Дорогая бабушка, я еще не умер…» И сколько таких слов, написанных и не написанных, отосланных и не отосланных, звучало в те годы по всей стране: страшный детский сиротский хор, организованный двумя дядями из Сочи. И каким стоном-воем откликнулся на него другой хор – материнский – из тюрем, «столыпинских вагонов», лагерей.
А. А. Жданов – соавтор 37-го года (и 38-го, конечно). Вот главное дело его жизни, вот главный «вклад» его в нашу культуру. Тут уж он был на особой высоте. О результатах его тогдашних «художеств» в Ленинграде мы знали по «Реквиему» Ахматовой и прочитали недавно в повести Л. К. Чуковской «Софья Петровна».
А вот еще одна страничка о таких же «художествах» Жданова в Уфе. Она – из письма ко мне М. Чванова, уфимского писателя, специально занявшегося этой темой:
«Поводом для его приезда послужило письмо первого секретаря Башкирского обкома Я. Б. Быкина Сталину, полное отчаяния. Видя, что творится вокруг, видя, что над ним самим собираются тучи, видя, что провокаторы уже рвут горло с трибун, обвиняя его в “мягкотелости” по отношению к “врагам народа”, к сосланным в Уфу ленинградцам, которых он трудоустроил, Быкин писал: “Прошу одного: пришлите толкового чекиста. Пусть он объективно разберется во всем!”
Жданов появился в Уфе со своей “командой” и бросил встречавшему его Быкину со зловещей ухмылкой: “Вот я и приехал! Думаю, что я покажу себя толковым чекистом”.
На срочно собранном пленуме Башкирского обкома Жданов был краток. Он сказал, что приехал “по вопросу проверки руководства”, зачитал готовое решение: “ЦК постановил – Быкина и Исанчурина (второй секретарь. – М. Ч.) снять…” Быкина и Исанчурина увели прямо из зала, не дожидаясь конца пленума. Быкин успел крикнуть: “Я ни в чем не виноват!” Мужественно держался Исанчурин: “В Быкина верил и верю”. Обоих расстреляли. Расстреляли и беременную жену Быкина.
В заключительном слове Жданов снова был краток: “Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами…”»
Перебью М. Чванова. Тут опять, как и в случае с «высотой», вырвалась проговорка об их морали: «Моральная тягота разрядилась…» «Моральная тягота» для них – это когда мало крови.
М. Чванов: «Не успел Жданов уехать, а в Уфе уже повалились заборы». Оставшиеся в живых уфимцы до сих пор с содроганием и ужасом вспоминают о той «исторической» экспедиции, о вакханалии арестов и расстрелов, обрушившихся на город. Один из доносчиков с гордостью говорил потом с трибуны писательского собрания, что он, несмотря на свое слабое здоровье, лично выявил 26 «врагов народа». Кстати, он жив до сих пор, здравствует и пишет стихи о любви…
Я до сих пор с замиранием сердца прохожу мимо Ивановского кладбища (оно сейчас застроено), где, по непроверенным данным (а как их проверишь?), по ночам в длинных траншеях закапывали убитых. Но закапывали не только там. Огромная уфимская тюрьма не была рассчитана на такое массовое «производство». Расстреливали в многочисленных уфимских оврагах, карьерах, увозили за город… Однажды благообразный старичок-пенсионер, бывший тюремный надзиратель, хвастался мне, что в те времена у них в тюрьме не хватало патронов, а камеры были переполнены, так, чтобы как-то разгрузить тюрьму, устраивали что-то вроде субботников или воскресников (его слова), на которые приглашали уголовников и, как полагается на субботниках и воскресниках, вооружали их ломами… Другой старичок, наоборот, жаловался, что времена были трудные, приходилось работать сверхурочно, и приходилось ему, следователю, заниматься не своим делом: «Надо уже домой идти, а тебя попросят: не успеваем, помогите, там еще семнадцать человек осталось. Устанешь, бывало, еле домой идешь. За это доплачивали, правда…»
Кроме Уфы, Жданов побывал тогда еще в Казани и Оренбурге, где провел аналогичные пленумы.
Документы, которые я использую, хранятся в архиве Башкирского обкома КПСС (фонд 122). Они отчасти попали в «Советскую Башкирию» от 28 февраля 1988 г.
Такая вот страничка. Всего лишь одна из многих сотен, если не тысяч.
Это он, Жданов, заменив в декабре 1934 года убитого Кирова на посту первого секретаря обкома и горкома Ленинграда, и организовал «кировский поток», то есть это он прямо заказывал, составлял и подписывал те списки (главная часть его «Литнаследства» – хватит не на один том), по которым многие десятки тысяч ленинградцев «потекли» в тюрьму, в лагеря, в ссылку, на пытки, на смерть. Жизни и этих убитых, искалеченных людей, равно как и сломанные судьбы их детей, – прямо на его личном счету (тут никак не выговаривается: на его совести).
Сколько раз в своих длинных речах Жданов клеймил писателей, художников, философов, музыкантов за «отрыв от жизни». Зато сам и продемонстрировал эту связь, как он ее понимал: в тех списках, в той телеграмме. Одобрить, прославить такую связь – вот чего он хотел прежде всего, больше всего от самой культуры хотел, чтобы культура прославляла убийство самой культуры, кровавое насилие над народом, чтобы Ахматова и Шостакович создавали гимны в честь своих палачей.
И еще об этой связи, точнее, о первом и последнем звеньях ее (а сколько их еще – между ними!): от Жданова-идеолога до тех двух старичков-исполнителей, о которых пишет М. Чванов. У идеолога вроде бы чисты руки, у исполнителей – чиста совесть: разделение труда! А в итоге – чудовищный социально-нравственный разврат, выдаваемый за «твердость основ» и «чистоту учения». В итоге – преступления, переименованные в подвиги. Да учтем еще, что Жданов как «чистый идеолог» – это миф. Он – самый непосредственный организатор кровавой вакханалии, ничуть не лучше Ягоды, Ежова, Берии. И когда писал он свои литературные, музыкальные, философские доклады, когда музицировал на фортепьянах (умел), – когда писал эти доклады, листал их, читая, он писал, листал, музицировал – кровавыми руками. К этим его докладам тоже относится: «Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами…» И валились – люди, люди, люди…
Я знаю: уже написаны (и уверен: будут еще написаны) страницы и о его позорно-преступной роли в дни страшной и великой блокады Ленинграда, такие страницы, от которых, кажется, должны содрогнуться и все умершие тогда, но все равно, все равно закричат некоторые из живущих: «Очернительство!»
Тут мне хочется перейти на прямое обращение к этим энтузиастам борьбы с очернительством. Подчеркну: не к тем, кто не знает фактов, а к тем, кто их знает и скрывает. Не к тем, кто обманут или ошибается, а к тем, кто обманывает людей сознательно – разумеется, разумеется, с самой «высокой целью».
Это раньше, лет тридцать назад, мы не всегда умели отвечать на ваши иезуитские, кривые вопросы. Теперь другое. Теперь уже вам приходится отвечать на вопросы прямые и ясные.
Что такое очернительство?
Сознательная клевета на миллионы честных людей – от мужика до академика, от грузчика до маршала – это не очернительство?
Сознательное уничтожение этих оклеветанных миллионов, уничтожение их «во имя социализма», – это не очернительство социализма?
Те списки, та телеграмма, те экспедиции в Уфу, Казань, Оренбург?
Травля представителей всех без исключения новейших областей науки?
Травля Ахматовой, Зощенко, а еще сотен, тысяч честных талантливых писателей, художников, музыкантов?
Имя Жданова на ЛГУ?
Это все – не очернительство культуры? <…>
Сначала были оклеветаны, арестованы, уничтожены миллионы людей.
Потом арестованы, сосланы, заточены факты об этом (расстрелять факты – это, казалось, никому не под силу, но многие факты действительно были расстреляны, испепелены, развеяны, и никогда уже больше мы их не найдем).
Наконец началось освобождение фактов.
И что же? Это освобождение вы и объявляете очернительством?
Вы пытаете факты точно так же, как ваши предшественники пытали живых людей.
Вы снова хотите их, эти факты, арестовать, заточить, испепелить.
Для вас преступлением является само раскрытие преступлений.
Почему?
Почему вы приходите в неистовство против тех, кто раскрывает преступления?
Почему не находите слов сострадания для жертв и слов негодования для палачей?
Почему – в лучшем случае – вы готовы признать черные страницы нашей истории «государственной тайной», до которой, мол, народ наш еще не дорос? (До расправы над собой дорос, а до правды об этой расправе не дорос?)
Почему?
Да потому, что боль человеческая, боль народная для вас – не боль, а «дежурная тема». Потому, что совесть для вас (со-весть) – это весть не о боли, не о судьбе народа, а весть о воле начальства сталинско-ждановской выучки. Вы сетуете о притеснениях народов во всех странах, кроме своей (да и в те ваши сетования я не верю, да вы и сами не верите).
Почему? Да потому, что вы – боитесь, боитесь и народа своего, и правды, и совести.
Потому, что доклады Сталина – Жданова, «Краткий курс истории ВКП(б)» – вот по-прежнему и весь ваш марксизм-ленинизм.
Потому, что свободно дышать вы можете только в атмосфере, отравленной «ждановской жидкостью» (это для вас – нормально), а в атмосфере чистой вы – задыхаетесь.
Потому, что лишь в темноте вы чувствуете себя сильными (да и в самом деле – сильны), а на свету? На свету вы бессмысленно хлопаете глазами, как филины, и лепечете, что вы всегда тоже – «за», «за», «за»…
Очернительство – это ложь.
Правда не может быть очернительством. Правда может быть только очищением.
Но все равно, снова и снова, слышу: «Но ведь были же у них и заслуги – у Сталина, у Жданова! Нельзя же так. Ведь должна же быть и тут диалектика…»
А знаете, я соглашусь с вами, если вы согласитесь с одним моим дополнением. Пусть будет по-вашему. Пусть будет, например, так: «Наряду с заслугами, у Сталина и Жданова был всего один недостаток: они были палачами»…
Кстати, вам вопрос: а к Ягоде, Ежову, Берии эта формула применима? А если нет, то почему?
И еще вопрос: сколько всего людей было незаконно репрессировано? Сколько из них – уничтожено?
Давайте подсчитаем вместе, друг друга поправляя и уточняя, давайте вместе все и опубликуем? Что, не хочется? А почему?
Не хотите вы этого даже и знать, а если б знали, сделали бы все для того, чтобы – скрыть. И – скрываете уже известное. И – травите тех, кто хочет узнать.
Вам еще придется доказать, что без ареста, без истребления миллионов честных людей мы не победили бы в войне. Докажите!
Докажите, что с этими миллионами мы бы войну проиграли.
И опровергните, что с этими миллионами мы не имели бы таких потерь и заплатили бы такую непомерную цену за победу.
Вот вся ваша «диалектика», если ее обнажить:
Да, Сталин оклеветывал и уничтожал честных людей, но ведь – «во имя коммунизма»! То, что оклеветывал и уничтожал, – это, конечно, плохо. Но то, что «во имя коммунизма», – это хорошо…
А Ягода, Ежов, Берия, Вышинский, Жданов – не «во имя»?..
Иезуитство это, а не диалектика!
Правда в том, что слово «Сталин» на самом деле намертво, нерасторжимо, навсегда склеилось с другими словами, как раз вот с этими – Ягода, Ежов, Берия, Вышинский, Жданов – плюс гигантский корпус доносчиков и палачей помельче, то есть плюс хваты, пытавшие академиков и маршалов, плюс юмины, избивавшие врачей, плюс те старички, помогавшие в молодости перевыполнять планы по уничтожению людей не столь именитых. Вот все это (и еще многое-многое другое, подобное) и есть ваш совокупный Сталин. И эти слова уж никому и никогда не удастся расклеить…
А самое главное: Сталин – это беспрерывное, систематическое понижение цены человеческой жизни – до нуля, понижение цен личности – до отрицательной величины: личность – вот главный враг, вот что всего подозрительнее, всего опаснее. И когда повторяют, что при Сталине «снижали цены», то, во-первых, это просто неправда, если говорить о вещах, о продуктах, а во-вторых, надо добавить: снижали цены – на человека, на личность!.. (А уж абсолютная аморальность его политическая – лишь одно из следствий этой основной посылки, определяемой в свою очередь мотивом абсолютного самовластия.) <…>
Ни одного вопроса нового не можете вы ни поставить, ни решить. Ведь ни единого проблеска, ни единого взлета своей собственной мысли, то излюбленной и выстраданной, то вдруг неожиданной и ошеломляющей! И неведомо вам возвышающее восхищение перед вдохновенной мыслью другого человека. Вместо этого вы знаете только то чувство, которое испытывает один пушкинский богач к «скрыпачу» на досуге. И это-то свое бесплодие вы и выдаете за «верность принципам». Для вас, в сущности, и Мысль – «вредитель», и Мышление – «враг народа». Вы и марксизм весь превратили в «зэка» и стережете, охраняете его, чтоб не сбежал. Вот единственное, на что вы способны, вот единственная ваша функция, единственное ваше «творчество»: охрана. Но теперь вы даже и тут – иссякли. Подорван источник вашего пустоцветного процветания. Вам грозит идеологическая безработица, ибо ваша идеология – это феномен уникальный, мутант, загадка природы: расширенное воспроизводство бесплодия, размножение интеллектуального импотентства.
Однако: сколько – при всем при том – у вас еще энергии, вашей специфической энергии нелюбви! Мне порой ее даже жалко: сколько ее расходуется зря или во вред. А если бы рационально? Бросить бы ее всю на СПИД – не будет СПИДА. Но бросить ее на культуру – культуры не будет…
В февральском номере «Нового мира» Андрей Нуйкин предупреждал – готовится ваше контрнаступление, и оказался прав: 13 марта появилось письмо Нины Андреевой. Никому не известный химик вдруг сделался всем известным идеологом. Превращение, прямо скажем, подозрительное. Не стоит ли за ним какая-то социальная алхимия?
Год назад один из прототипов моего Инкогнито, кстати, кажется, тоже химик, забрал из редакции свой донос со словами: «Сейчас не время ударять…» Представляю, как обрадовался он письму коллеги: настало, мол, время… Представляю, как пришлось оно вам всем по нутру – вот они, ваши новые «Основы», ваш новый «Краткий курс», ваш первый идеологический «Манифест», насквозь пропитанный «ждановской жидкостью». Представляю еще, как мобилизовывали вы все свои интеллектуальные, моральные, организационные способности, чтобы превратить этот «Манифест» в сигнал к немедленному контрнаступлению, но… опять наступили на грабли. Почему Нину Андрееву хочется назвать лишь соавтором «Манифеста», и к тому же далеко не главным? А кто главный? <…>Что это за Нина Андреева такая, обладающая столь небывалым и непонятным всемогуществом? А если это действительно не она, то кто? Стало быть, речь идет о чьей-то платформе? О чьей конкретно? И почему тогда ее истинные создатели спрятались за бедного химика? И последний вопрос: если оказалось возможным такое, то почему невозможно и худшее?
Или все эти вопросы неправомерны и надо запретить их задавать? А может быть, надо еще запретить над ними и думать?
Нет, никуда нам от этих вопросов не деться, и мы должны чувствовать и сознавать не только свое право, но и обязанность их задавать, задавать и требовать на них прямого ответа.
Совсем недавно (24–26 марта), будучи в Ленинграде, я вдоволь наслушался, начитался славословий в честь неглавного автора. Воочию нагляделся на самый настоящий рецидив ждановщины. Надышался, нанюхался «ждановской жидкости». Это славословие разворачивалось как по команде. Впрочем, почему – как? Оно и было очень даже хорошо организовано. Многим опять показалось: «Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами…» Я слышал: «Наконец-то!», «Наконец-то дан отпор очернителям», «Наконец-то все поставлено на свои места)».
Это – отрезвляет. Гарантий необратимости обновления еще нет. Зато нам наглядно и радостно продемонстрировали маленькую репетицию удушения перестройки, микромодель реванша. Будем благодарны за хороший урок: гарантии только в нас самих. <…>
…Экология. Поворот рек. Отравление Байкала…
А еще – экология нашей нравственности. Повороты рек нашей культуры. Отравление наших духовных Байкалов… Все это предельно конкретно, наглядно – осязаемо и грубо – и выразилось в нашем самоокроплении ждановщиной, в нашем самоочернительстве. <…>
От кого все это зависит? Да от кого же еще, как не от нас самих? От взрыва чувства нашего собственного достоинства, нашей чести, да просто – брезгливости. Если мы не хотим или не умеем добиться столь малого, то как добьемся большего? Вот мне и пришла в голову простейшая мысль: давайте (я обращаюсь к вам, читатели), давайте поставим эксперимент. Сколько же времени понадобится нам для того, чтобы решить столь очевидную элементарную задачу: отмыться от «ждановской жидкости» хотя бы внешне (отмывание внутреннее – дело несравненно более долгое, сложное, но, может, и оно от того чуть ускорится)?
Ну, а тем, кому любезно это имя, посоветуем (этот совет при нынешней демократизации вполне реален): пусть выстроят для себя – на кооперативных началах – хоть Ждановград, хоть Славождановск, хоть Жданофильск, а в нем – площадь имени Жданова, а на ней – памятники: Жданову-мыслителю, Жданову-полководцу, Жданову-литературоведу, Жданову – истребителю «врагов народа», и пусть опояшут этот последний теми списками, пусть выгравируют золотом ту телеграмму. Пусть ходят на демонстрации с его портретами, слушают кантаты в его честь и поют о нем песни. Все улицы, конечно, ждановские, под номерами. Пусть выроют хоть десять искусственных рек его имени и ежемесячно перебрасывают их куда заблагорассудится. Пусть объявят конкурс на создание «Основ» и «Краткого курса» ждановизма (победят, конечно, главные соавторы Н. Андреевой, но, может быть, и ей что-нибудь достанется). Пусть принимают ежедневно постановления в ждановском духе. Пусть объявят всех Мадонн, созданных всеми Рафаэлями и Леонардами, богоискательством и некрофильством. Но вот тут-то и начнется: кто бдительнее? Кто мягкотел?.. Соревноваться будут. Вырезать из предпоследней главы «Идиота» цитаты о «ждановской жидкости»! Вырезать всю главу! Запретить весь роман – как диверсию против Жданова! Запретить всех тех, кто его читал! Запретить тех, кто это запрещал: ведь они же помнят! Запретить вообще думать о «ждановской жидкости»! И будут они все ошалело бормотать про себя: «Я о ней не думаю. Я думаю не о ней…» Глядишь, придется ведь открыть и тюрьму имени А. А. Жданова, и лагеря. Пересажают они все друг друга, так что два последних ждановца (ждановки?) друг на друга доносить побегут за то, что – думают о ней. Только – кому и куда?..
Однако не будем питать иллюзий: освободиться от ждановщины – несравненно труднее, чем переименовать университет, а переименовать университет – несравненно легче, чем чувствовать, мыслить и жить в новых духовно-нравственных координатах. Но ведь вне таких высоких, чистых, благородных координат, вне координат нового мышления – нам вообще не выжить.
Я слышал такую критику моей статьи «Ждановская жидкость»: «Конечно, А. А. Жданов человек не святой, но нельзя же его так… Это не по-русски…» И при этом ни слова о ждановских списках, по которым уничтожены, сосланы, искалечены десятки тысяч людей… А такое беспамятство – по-русски? Или вот еще факт. Обнаружили в одном городе захоронение незаконно репрессированных или, как говорили на Руси, невинно убиенных. И что же? Было приказано: скрыть следы!.. То есть: опять забыть, залить память бетоном. Это – по-русски? Чем этот бетон лучше «ждановской жидкости»? Только не ведают бетонщики, что увековечивают они – себя, увековечивают в своем бесстыдстве, в своей бессовестности. Так хотели скрыть и Куропаты, этот сталинский Освенцим, – не удалось.
Знаю я и такой упрек в свой адрес: статьи «Грабли» и «Ждановская жидкость» написаны слишком эмоционально. Объяснюсь.
Во-первых, без эмоций нельзя, если ты – нормальный человек. В том-то и дело, что мы слишком долго отвыкали и почти отвыкли чувствовать, как чувствуется (а это – первоэлемент, это ядро «самостоянья человека»), отвыкали чувствовать без насилия над своими чувствами – свободно, честно, искренне. Именно сталинщина смертельно боялась нормальных человеческих эмоций, а потому их вытравляла, убивала, извращала, обесчеловечивала, заменяя их все на одну – стадную – эмоцию, на патологическую любовь к «вождю», на слепую веру в его абсолютную правоту и гениальность, на патологический же страх изменить этой любви, этой вере. Удушить, извратить эмоции и, значит, расколоть ядро «самостоянья». А бояться эмоций – значит бояться быть самим собой. К тому же упреки в излишней эмоциональности со стороны тех, кому сталинщина любезна, насквозь лицемерны: вот уж кто преисполнен эмоций, только каких?
Во-вторых, в определении самых главных жизненных ориентиров, координат – зла и добра – наши эмоции (если они не задавлены, не извращены, не обесчеловечены) куда умнее, проницательнее нашего ума, которым мы так гордимся, куда его честнее и неподкупнее. «Ах, ох, какое унижение ума!» Никакое не унижение. Ум – совести великий помощник, а не господин и не надзиратель. А иначе он – вышколенный циничный лакей бессовестности.
В-третьих, истинно человеческие эмоции и призваны стимулировать, взнуздывать, оплодотворять мысль. Чувства должны стать теоретиками, говорил один великий мыслитель. Сильное честное чувство и порождает сильную честную мысль. Извращенные же эмоции неизбежно заставляют и мысль становиться олигофренической, импотентной.
Как раз о такой слабоумной (хотя и страшной) мысли я и писал: «Да, Сталин оклеветал и уничтожил честных людей, но ведь – „во имя коммунизма!”. То, что оклеветал и уничтожал, – это, конечно, плохо. Но то, что „во имя коммунизма”, – это хорошо…»
Спрашивается: это что, эмоция, и только? А для меня это мысль о мысли, это сильная, горькая, честная мысль о мысли низкой, циничной и слабоумной. Говорю так, потому что идея этой сильной мысли вовсе не моя, а Достоевского: «Каламбур: иезуит лжет, убежденный, что лгать полезно для хорошей цели. Вы хвалите, что он верен своему убеждению, то есть он лжет, это дурно: но так как он по убеждению лжет, то это хорошо. В одном случае, что он лжет – хорошо, а в другом случае, что он лжет – дурно. Чудо что такое». Вот я и хотел выявить мысль об абсолютном самоистребительном алогизме (змея себя кусает!) сторонников сталинщины, о полной их неспособности понять, в каком кровавом нонсенсе они запутались. В одном случае убийство хорошо, в другом – то же самое убийство – дурно? И с доносами так? И с пытками? И с пытками, убийством детей – тоже так?..
А ведь, казалось бы, для нормального человека все так просто: не нужны миллионы чудовищных фактов клеветы и убийств, а достаточно одного-единственного: если человек клевещет на другого и убивает его (или организует убийство), клевещет и убивает его сознательно, боясь разоблачения своего полного несоответствия тому месту, которое он занимает (захватил), стремясь и дальше узурпировать власть, лживо прикрываясь высокими политическими, идеологическими целями, то какой еще может быть тут прежде всего, важнее всего вопрос, кроме вопроса о законе, о праве, об уголовном кодексе? Или для такого убийцы кодекс не нужен, неприменим, так как он, убийца, занимает слишком высокий пост и апеллирует к слишком высокой политике? Ну так прямо так и скажите! Ему – можно. Ему даже дoлжно. А остальным?.. И что получите в результате? Получите двойную мораль (одним можно, другим нельзя). Это раз. Получите цепную реакцию социального и духовного разврата, потому что другие захотят того же. Это два. Нас это устраивает? Значит, мы и заслуживаем того, чтобы с нами так и обращались, так, как обращались при Сталине. А если не устраивает, значит, придется вернуться к началу начал, придется пресечь всякое превращение уголовщины в политику и идеологию, а идеологии и политики – в уголовщину. Придется относиться к уголовщине как к уголовщине. Придется обратиться к праву, к закону, равному для всех, без исключения. Вот и все. И однако же понадобились именно миллионы фактов, чтобы признать: достаточно одного-единственного. Это и значит (повторю в последний раз): не постой за волосок – головы не станет…
Цель – средства – результаты… В среднем звене здесь скрыты как истинная цель, так и цена результатов. Средства (как цель в действии и как цена) и входят в самое содержание провозглашаемой цели.
И если мы желаем понять сущность сталинизма, то и надо взять реальные, неприкрашенные результаты его воплощения, сопоставить их с реальными, неприкрашенными средствами, то есть с реальной ценой, и тогда перед нами откроется действительный смысл провозглашаемых им целей, то есть мы перестанем наконец быть дурачками, верящими сталинизму на слово. Причем – «считать» надо на его реальное отношение к человеку, к людям, к народу: здесь-то и выявляется все, все, все – и средства (цена), и результаты, и действительная цель. Сколько и каких людей уничтожено, искалечено, унижено?.. А еще безошибочнее «считать» на детей. Тема: «Сталин, сталинщина и дети»… Когда эта тема будет осмыслена на основе всей совокупности фактов, тогда она окончательно просветит всех, еще способных просвещаться. Хотя не могу опять не сказать: здесь достаточно одного-единственного факта. И такой факт есть: отмена Сталиным всей и всякой законности, сталинский приказ-«рекомендация» – пытать, пытать подозреваемых (по клеветническим доносам!), приказ – «рекомендация» – применять беззаконие, применять «высшую меру», применять пытки – и к детям, достигшим двенадцати лет. А пока нас больше всего просвещают результаты соединения кровавого разврата сталинщины с наживательским развратом брежневщины-рашидовщины (а тут есть глубокая внутренняя связь: безграничное насилие вполне натурально выродилось в безграничную коррупцию, тут общий знаменатель – абсолютная бесконтрольность). Эти результаты поставили страну на грань, за которой ей грозит немыслимая отсталость. Все это доказано и передоказано, все это очевидно и сверхочевидно для всех, кроме малых и больших алхимиков, – вот оно, воплощение ваших любимых «принципов»! Вот плоды вашего интеллекта и вашей морали!
При такой-то цене – такие результаты…
И после всего этого вы снова смеете претендовать на власть?! И после этого: «Не могу поступаться принципами…» До пропасти довели – и все о «принципах» талдычат… Но их не могут прошибить никакая логика, никакие миллионы фактов. И тут мы упираемся (хватит наивности) вовсе не в их «концепции» и «принципы» и даже не в их поразительно не-скрываемую олигофрению (они ведь не только моральные, но и интеллектуальные жертвы сталинщины, которые уже не в силах понять своего убожества), мы упираемся в их интерес, в ту или иную их сопричастность к сталинщине (прямую или косвенную, грубую или потоньше, понезаметнее), в сопричастность к сталинской практике насилия над человеком, над мыслью, над культурой, в сопричастность к обесцениванию человека, в сопричастность к бесчеловечности. Упираемся в их страх (а это по-своему мощная сила), в страх признать эту сопричастность, в страх, спасающийся от самого себя переходом в наступление, упираемся в их агрессивность, конечно, под знаменем «верности принципам», упираемся в панические крики о «смертельной опасности» (для кого? Для чего? – для сталинщины!). Упираемся в страх, который именно от страха и выдает себя за смелость. И да не обманемся мы этой «смелостью»…
Мы присутствуем при последнем историческом акте – издыхания, агонии сталинской бесовщины.
Однако нам еще не раз придется потрястись, ужаснуться ее преступлениям. Мы еще не раз будем задыхаться от слез и праведного гнева. Но наступит, я уверен, и такой момент, когда мы вдруг над Сталиным и сталинщиной – засмеемся! И это будет смех-освобождение, окончательное освобождение от сталинских кошмаров и миражей. Мы еще удивимся, не поверим: как это так, мы, такие, жили при тех кошмарах и верили в те миражи? Как это мы верили: Сталин – гений, так как он сам выдал себя за гения?.. Или: Сталин – гений, так как мы ему в этом поверили?.. Но это и будет означать, что мы уже не такие, что мы стали – другими. То есть: мы засмеемся над самими собою…
Ленин назвал Сталина Держимордой (это Сталин образца не 29-го, не 34-го и 37-го годов, а всего лишь образца 22-го года) и был за снятие его с поста генсека. Сталин (не один, конечно) скрыл ленинское Завещание (таким образом, Ленин был первым, кого он лишил гласности) и пустил слух о том, что Ленин был «не в себе», а потом вообще объявил Завещание «фальшивкой» и расстреливал тех, кто его знал и помнил. Мало того: создал миф о «великой дружбе» Ленина со Сталиным и заставил всю страну распевать и слушать:
На дубу высоком, да над тем простором
Два сокола ясных вели разговоры.
И как первый сокол со вторым прощался,
Он с предсмертным словом к другу обращался:
«Сокол ты мой сизый, час пришел расстаться,
Все труды-заботы на тебя ложатся»,
А другой ответил: «Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся – не свернем с дороги».
Дал он другу клятву, клятву боевую,
И привел он к счастью всю страну родную.
А соколов этих люди все узнали:
Первый сокол – Ленин, второй сокол – Сталин.
А кругом летала соколятов стая…
Первый сказал о втором: «Держиморда». А поется: «Сокол ты мой сизый…» И ведь почти все мы слушали и пели…
И что же? Опять запоем? Запоем, если согласимся с Н. Андреевой, И. Шеховцевым, с их соавторами и почитателями. И. Шеховцев говорит о себе и о себе подобных даже не «мы», а «они», и говорит так: «Они хотят «реанимировать» Сталина как самого верного и последовательного продолжателя дела Ленина»*3. Должен признаться: я давно уже не верю ни в искренность, ни в принципиальность таких людей, как Н. Андреева и И. Шеховцев. Но вот если они сами запоют эту «народную песню», если исполнят ее публично (желательно по телевидению, на всю страну), тогда, пожалуй, я возьму свои слова обратно. Спойте «На дубу высоком…»! Спойте хоть дуэтом, хоть хором («соколятов стая…»). Только дайте свой первый концерт в Куропатах, Магадане, на Соловках или в сталинско-ежовско-бериевских подвалах и застенках, спойте над только что отрытыми скелетами «врагов народа» с простреленными в затылок черепами да призовите на свой концерт чудом оставшихся в живых людей, их родных (они, может быть, вам подпоют?), спойте, если уж вы действительно искренни, если вы и в самом деле верны своим «принципам»…
Сейчас мы находимся на пути понимания того, чтo и как с нами произошло, на пути понимания того, как превратились мы в людей несвободных. Мы это уже почти поняли. Но этого мало. Нам еще предстоит достигнуть непонимания, да, да, именно непонимания, органического, в плоть и кровь вошедшего непонимания: как это можно быть – несвободными?
А теперь – об одном курьезе, нарочно не придумаешь. В мае я выступал в Ленинградском технологическом институте, в том самом, где преподает Н. Андреева, преподает не только химию, но и алхимию. И вдруг получаю записку: оказывается, были в XIX веке братья Ждановы, которые и изобрели «ждановскую жидкость», и учились эти братья-химики как раз в этом институте. Не хватает еще, чтобы сам А. А. Жданов оказался их потомком.
Но все-таки закончить хочется совсем не этим. Сталинщина-ждановщина действительно подыхает – туда ей и дорога. Мучает по-настоящему вовсе не она:
На жизнь надвигается юность иная,
Особых надежд ни на что не питая.
Она по наследству не веру, не силу –
Усталое знанье от нас получила.
От наших пиров ей досталось похмелье.
Она не прельстится немыслимой целью,
И ей ничего теперь больше не надо –
Ни нашего рая, ни нашего ада.
Разомкнутый круг замыкается снова
В проклятие древнее рода людского!
А впрочем, не гладко, не просто, но вроде
Года в колею понемножечку входят, –
И люди трезвеют и все понимают,
И логика место свое занимает,
Но с юных годов соглашаются дети,
Что зло и добро равноправны на свете.
И так повторяют бестрепетно это,
Что кажется, нас на земле уже нету.
Но мы – существуем! Но мы – существуем!
Подчас подыхаем, подчас торжествуем.
Мы – опыт столетий, их горечь, их гуща.
И нас не растопчешь – мы жизни присущи.
Мы брошены в годы, как вечная сила,
Чтоб злу на планете препятствие было!
Препятствие в том нетерпенье и страсти,
В той тяге к добру, что приводит к несчастью…
(Н. Коржавин, «По ком звонит колокол»)
Великий Смешной человек нашего времени Д. С. Лихачев дает телеграмму съезду писателей: «Покайтесь!» Факт – насквозь русский. Факт – исторический. А ему в ответ – «Нам каяться не в чем!» А вслед этому ответу – недавно – другой: «Наши личные подлости прежние и не подлости вовсе, а исторические добродетели…»
И это – на глазах юных! Мотайте, мол, на ус… Бесстыдство равняется мужеству?
Достоевскому – было в чем каяться. Толстому – было. Чехову!.. А тут – все нипочем… Тоже факт исторический. Запомнится.
Наше поколение… Время нас спрессовало. Теперь – это поколение, середина, ось которого приходится на 25–30–35-й годы рождения (иногда – старше лет на пять, на десять, иногда – немножко младше). В 37-м моему собственному, так сказать, поколению всего семь, в 41-м – еще одиннадцать, а в 56-м – уже двадцать шесть (уже и путы житейские, а начинай все сначала), а с конца 60-х мы потихоньку начали отъезжать с ярмарки. Тогда-то и сказал один бывший идеолог: «Надо перепрыгнуть через поколение XX съезда». И перепрыгнули – в рашидовщину…
Смею думать: такого поколения не было в истории России, а может быть, и в истории всечеловеческой: такие надежды, такой террор, такая война, такая жестокая проверка прежней веры да плюс еще перелом во всем мировоззрении человечества, ставшего вдруг – смертным… И все это – выпало на долю одних и тех же людей, все это – по ним проехалось. Тут не о гордыне, тут – о последнем достоинстве.
Что отсюда следует? Только одно: мы должны обо всем этом честно рассказать, честно закончить свои дела. Из этого поколения уже вышли люди замечательные. Но я убежден: последнее слово этим поколением еще не сказано. Все зависит тут только от нас самих и прежде всего – опять от способности учиться. «Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродни мыслящему созданию. Бескорыстное признание в оном требует душевной силы» (А. Пушкин). «Нет раскаяния – потому что нет движения вперед, или нет движения вперед, потому что нет раскаяния. Раскаяние это как пролом яйца или зерна, вследствие которого зародыш и начинает расти и подвергается воздействию воздуха и света, или это последствие роста, от которого пробивается яйцо… важное и самое существенное деление людей: люди с раскаянием и люди без него» (Л. Толстой).
В июне 1988 года Егор Яковлев провел в газете «Московские новости» круглый стол «Что будет, если перестройка погибнет?» в ответ на контрнаступление противников перестройки, которых сплотила статья Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». За нею стоял член ПБ ЦК КПСС Е.К. Лигачев. Вот мое выступление (в сокращенном виде).
Давайте поставим и обсудим только один вопрос: что будет, если перестройка погибнет? Это наш последний исторический шанс. Здесь сплелись самые большие наши надежды и самые большие опасения. Одно из двух: либо она удастся, и тогда мы превратимся в нормально функционирующее общество со своими нарастающими стимулами саморазвития, то есть, наконец, найдем себя либо потеряем себя окончательно, и тогда наш народ, наша страна, наши идеи потерпят такое поражение, которое окажется буквально катастрофическим. Прибавим сюда еще чувства национального достоинства, национальной гордости и чести народов нашей страны, которым к тому же грозит небывалое отставание, небывалое унижение в случае гибели перестройки.
Чтобы перестройка сделалась действительно необратимой, и надо, по-моему, прежде всего трезво, бесстрашно и даже, если угодно, жестоко представить себе, осознать, что будет, если она погибнет. Представить, осознать так, чтобы этот путь, путь отступления, провала, катастрофы, стал въяве отвратителен всему нашему обществу, а потому – закрыт, отрезан, «заказан».
Что будет, если?.. Будет Чернобыль. Универсальный – экономический и политический, социальный и национальный, идеологический и духовно-нравственный. И это произойдет как бы по плану, в результате вполне сознательных, целеустремленных усилий тех, для кого нет ничего выше корыстных интересов и привилегий, тех, кто знать не желает, к чему все это ведет, тех, о ком сказано поэтом:
Сильней, чем страх в нее шагнуть.
Возможно, предложенный подход покажется кому-то «запугивающим», «алармистским» и даже «апокалипсическим». Но вот именно это настроение, эту установку и необходимо преодолеть, переломить. Речь на самом деле идет лишь о мужестве увидеть бездну, чтобы в нее не шагнуть. Все думают, говорят, пишут: обратима или не обратима перестройка? Ну, так и будем последовательны до конца.
Решать задачу при наихудших из всех возможных условиях – это и есть высшая объективность и высшее деловое мужество.
Сейчас перестройке нужно самое трезвое, самое беспощадное выжигание всякого самообмана, всякого самообольщения, честная, мужественная самокритика. Пусть каждый отдаст себе ясный отчет; все ли сам (конкретно, лично) сделал для ее необратимости? Чем честнее, мужественнее, беспощаднее будет ответ, тем больше увеличатся шансы этой самой необратимости. Есть и программа конкретных действий.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Юрию Карякину
Всего на одно лишь мгновенье
Раскрылись две створки ворот,
И вышло мое поколенье
В свой самый последний поход.
Да, вышло мое поколенье
Усталые сдвоив ряды.
Непросто, наверно, движенье
В преддверии новой беды.
Да, это мое поколенье
И знамени скромен наряд.
Но риск, и любовь и терпенье
На наших погонах горят.
Гудят небеса грозовые,
Сливаются слезы и смех,
Все маршалы, все рядовые,
И общая участь на всех.
Булат Окуджава
В 1988 году кончилась моя кабинетная жизнь. Кончилась и чистая публицистика.
В начале февраля 1989 в дверь нашей квартиры неожиданно позвонили. На пороге стояли два молодых человека, мне незнакомых.
– Юрий Федорович! Мы из Фрязино. Мы создали инициативную группу по выборам на съезд народных депутатов и просим вас баллотироваться в депутаты от нас…
Предложению удивился, но приезду самих фрязинцев – не очень. Я там недавно выступал с впечатлениями о XIX партконференции.
– Ребята, а это ваше предложение – серьезно? В смысле – есть шансы? Хотя Фрязино, конечно, не Якутск, но местный кандидат жителям наверняка будет ближе…
Они заверили – есть.
Я задумался. Как раз накануне проходили выборы кандидатов в народные депутаты в нашем Союзе писателей. Там разгорелись свои страсти – не прошли Дудинцев, Рыбаков, другие достойные люди, а квота была всего десять мест. Распылять голоса было бы на руку тем, кто об «экстремистах», «прорабах перестройки» говорил с издевкой. Меня тоже выдвигали, но я взял самоотвод, мотивируя это тем, что есть гораздо более достойные писатели.
Теперь молодые фрязинцы (особенно запомнился Эльдар, с которым мы дружили потом несколько лет) уверяли меня: главное – люди вам поверят. Ведь раньше – горячился Эльдар – мы опускали бумажки за «спущенное», выборов не было в принципе. А теперь будут настоящие выборы, будут настоящие встречи с избирателями. Людям же нужны не столько программы-словеса, сколько честные депутаты.
Ребята хоть и горячились, но были правы. Личность – это уже программа. Главное, чего нам не хватает кровно, – личностей. Какие законы будут приняты, важно, но еще важнее, кто их будет выполнять. Голосовать. Делать запрос министру. Личность – это поступок в экстремальных обстоятельствах. Помню идущего к трибуне на XIX партконференции В. Коротича – добрая половина зала чуть ли не в крик: «Он оскорбил нас! Оскорбил делегатов!» Страшно ему было, я же видел. А кто оказался прав? Не крикуны, а мужество проявивший Коротич.
Задумался сразу, с какой предвыборной программой выступать. Конечно, у всех, и у фрязинцев, на первое место выходят свои нужды: жилье, автобусы не ходят, гибнет речка, да мало ли еще чего? Вы мне большие проблемы, а я вам мои – неотложные. Ведь они существуют. Существуют – и повсеместно, как близнецы. И неотделимы они от общих глобальных проблем. У нас же общественный рак. Корабль летит не туда, а если вы в кубрике порядок наведете, спастись можно? За счет кого будем выбивать блага для «своих», если дефицит повальный? А мы и не верим, что у нас рак, знать не хотим! Чуть что, бьем диагностов: устали от вашей гласности! Магазины-то пусты! Преступность растет! Смертность детская! – не понимая, что корень всех болезней в опутавшей нас лжи. «Гласность нужна нам как воздух»? (Горбачев) Как воздух! Но за этот воздух нам еще бороться и бороться.
Помнится, сказал тогда ребятам, а на встречах с избирателями уже повторил:
– Я вообще не верю в наилучшую программу, отточенную до деталей. Верю в позицию. Приоритеты важны. Реформа политической и экономической системы управления страной – с необходимой децентрализацией. Обязательность альтернативных проектов, в том числе и в законодательной сфере. Охранять надо две вещи: экологию (в широком смысле) и гласность. И это касается всех социальных институтов.
Уже задумывался: если выберут, немедленно оставляю службу, институт, полностью отдаюсь депутатским делам. Силы мои не беспредельны, и отрыв от «низовых» нужд губителен. И мне будет нужна как помощь специалистов, так и встречное изучение тонкостей всего местного. Я к этому готов, потому что привык учиться. И, думаю, противопоставлять «приспособленных» и «небожителей», «рабочих» и «гуманитариев» – дело безнадежное. Совесть – вот основа. Демократия не отменяет личной совести, а обостряет ее. И нужно, чтобы больше людей прониклись осознанием, что иначе перед лицом смерти нам, как стране, как народу, не спастись.
В общем, согласился. Началась предвыборная гонка. Сил потратил много. Ребята прекрасно работали. Но пришлось сойти с дистанции по собственному решению. Сам решил отдать «свой голос» в пользу Николая Травкина.
А история с Травкиным была такова. Как-то утром, довольно ранним, в марте, сижу в своей клетушке в квартире на Перекопской и соображаю, как же это мне добраться до Фрязино? Ведь машины у меня нет. Ребята тоже бесколесные. А надо обязательно быть на встрече с избирателями, там уже многое решилось. И вдруг звонок в дверь. Что за ранний гость? Открываю. Стоит молодой красивый парень с открытым лицом.
– Вы Карякин?
– Ну, я.
– А я Травкин. Николай Травкин, Герой Соцтруда, может, слышали о методе Травкина в строительстве? И ваш соперник. Вот еду во Фрязино. У меня машина. Поедем вместе?
Поехали. Поговорили. И парень этот мне понравился. Прямой, открытый, видно, прочно стоит на ногах. Хочет перемен, аж руки чешутся. Послушал, как выступает. Убедительно. Люди его в Подмосковье знали. А противостоял ему кандидат от партийно-хозяйственной номенклатуры Смирнов, директор авиационного (ракетного) завода. Ну, и решил я помочь Травкину, не распыляя голоса тех, кто хотел сдвинуть дело с мертвой точки. Обратился к тем избирателям, что мне симпатизировали, – отдайте голоса за Травкина. И Коля победил!
ФОТО № 49
Я же оказался избранным на Первый съезд народных депутатов от Академии наук – совершенно для себя неожиданно.
Известный общественный деятель Виктор Шейнис, ставший своеобразным «хроникером» нашей демократической революции (см. его книгу «Взлет и падение парламента. Переломные годы в российской политике – 1985–1993»), выборы в Академии наук назвал сражением за «Сахаровский список». Умелая, последовательная и порой дерзкая работа инициативной группы интеллектуалов и честных людей, объединившаяся в группу «За демократические выборы в АН», позволила совершить маленькое чудо: сторонники перемен, демократы одержали убедительную победу над академическим истеблишментом.
Вначале выборы в Академии не предвещали ничего хорошего. Академии как «общественной организации» было выделено 25 мандатов. 55 академических институтов выдвинули Андрея Дмитриевича Сахарова, 24 – Роальда Сагдеева, 19 – Дмитрия Лихачева и т.д. Тем не менее 18 января 1989 на расширенном заседании Президиума АН, где собрался весь начальствующий состав, никто из ученых–лидеров общественного мнения, даже академик Сахаров, не были избраны. Академические начальники даже не смогли заполнить все 25 мандатов, им выделенных. Вышел скандал, так что у Академии даже отняли пять мест.
2 февраля у здания Президиума АН состоялся массовый митинг. Собравшиеся осудили верноподданническое начальство и потребовали демократических выборов. Была создана инициативная группа по выборам из демократически настроенных представителей различных академических институтов. Имя Сахарова было у всех на устах. Он был выдвинут и по московскому национально-территориальному округу, но принял жесткое и, как оказалось впоследствии, единственно верное решение: уступил московский округ Ельцину, чтобы самому баллотироваться только от Академии.
Добившись повторного выдвижения кандидатов на выборы народных депутатов от Академии наук СССР, инициативная группа подготовила список из 23 кандидатов на второй тур. На конференции АН было принято одно очень важное решение: в депутаты может быть выдвинут любой сотрудник АН, а не только академики и членкоры.
ФОТО 036
На второй избирательной конференции АН (19–21 апреля 89-го) на 12 мест, освободившихся после провала официальных кандидатов в результате переголосовки 21 марта, были избраны исключительно кандидаты, поддержанные демократами: известные ученые, активные «перестройщики», в большинстве своем не занимавшие никаких официальных постов: Андрей Сахаров, Сергей Аверинцев, Вячеслав Иванов, Николай Шмелев, Геннадий Лисичкин, Николай Петраков, Роальд Сагдеев, Павел Бунич, Александр Яковлев, Георгий Арбатов, Виталий Гинзбург. Был избран и я, оказавшись, к всеобщему удивлению, на четвертом месте по числу голосов. Конечно, мне очень помогла поддержка Андрея Дмитриевича Сахарова, который согласился быть моим «доверенным лицом» (а я соответственно его). Кандидатуру мою представлял Виктор Шейнис в свойственной ему манере говорить обстоятельно и убедительно. После его «презентации» зал взорвался аплодисментами. Говорить неудобно, а вспомнить приятно. Как всегда интересно, умно и не без юмора выступил за меня Владимир Лукин, а Рой Медведев прислал письменное «поручительство», которое зачитали на том бурном академическом выборном заседании. Недавно обнаружил это письмо Роя и хочу его привести с благодарностью. Ведь с Роем Медведевым нас связала дружба и борьба со сталинщиной в самые дремучие и опасные годы застоя, когда он разыскал меня в моей московской конуре и принес рукопись своей первой большой работы о Сталине и большом терроре.
Вот это письмо в Избирательную комиссию по выборам народных депутатов СССР от АН СССР.
Уважаемые товарищи!
В списке кандидатов в народные депутаты от Академии наук немало уважаемых людей, и надо иметь веские основания для того, чтобы выбрать наиболее достойных. Поэтому я далек от того, чтобы заниматься противопоставлением и «взвешиванием» репутаций людей, со многими из которых я незнаком лично, не знаю их общественной деятельности и некомпетентен в области их научных интересов.
Но уже 25 лет я хорошо знаю Юрия Федоровича Карякина, многие из изучаемых им проблем близки также и мне.
Ю.Ф. Карякин – один из немногих ученых-обществоведов, соединяющих начало шестидесятых и вторую половину восьмидесятых годов, из тех, что не пошли на сделку с совестью, благодаря которым не прервалась «связь времен».
В девятой книжке «Нового мира» за 1964 год, на которой закончилась «эпоха Хрущева», была напечатана статья Карякина о Солженицыне, в которой Карякин поставил перед мировым коммунистическим движением проблемы преодоления сталинизма, соотношения целей и средств в социалистическом строительстве и многие другие важнейшие проблемы теории и практики научного социализма. В самом начале 1986 г. в сборнике «Пути в незнаемое» вышло отвергнутое почти всеми московскими редакциями блистательное эссе «Не опоздать!» – манифест того, что мы называем сегодня «новым мышлением». Между двумя этими вехами – уход в изучение на материале XIX века проблем, актуальных для всего века XX, во имя того, чтобы наступил век XXI.
Я знаю Ю.Ф. Карякина как человека абсолютно бескорыстного, которому чужды сами понятия материальной или карьерной выгоды. Считаю его одним из крупнейших знатоков философии, в том числе марксистской, вдумчивым аналитиком социальных и исторических проблем. Я благодарю Юрия Карякина за помощь, о чем всегда указывал в своих работах.
Считаю, что Ю.Ф. Карякин сочетает в себе компетентность, порядочность и общественный темперамент, необходимые для народного депутата.
На академических выборах я представил развернутую программу, хотя и тогда, а теперь особенно понимаю, что сама по себе программа кандидата ничего не значила.
Выборы народных депутатов в 1989 году принесли немало сюрпризов не только в Академии наук. Народ, особенно в Москве и северной столице, будто проснулся от спячки. Почти каждая встреча депутатов с избирателями превращалась в бурное обсуждение самых насущных проблем. Митинги, демонстрации вздымали Москву. Мне особенно запомнился майский (21 числа) митинг 1989 года в Лужниках.
ФОТО 017
Трибуны не было. Подогнали грузовик, и на него взгромоздились уже известные в Москве, да и в стране новые лидеры во главе с А.Д. Сахаровым и Б.Н. Ельциным, которые позднее возглавили Межрегиональную группу на съезде народных депутатов СССР. Особенно горячо народ приветствовал Ельцина. А потом стали скандировать: «Ельцина – в президенты».
Я тогда спросил Бориса Николаевича о двух важных для меня вещах и поразился его честному и даже подкупающе наивному ответу.
– А вы могли бы начать все это, ну заварить всю эту перестройку, новое мышление?
– Да нет, пожалуй, нет.
– Ну а как насчет президента?
– Это как народ решит.
Мы тогда выступали очень резко, главным образом против партийной номенклатуры, которая, проиграв в одномандатных округах, не могла поверить в свой провал и действовала очень агрессивно.
ФОТО 022
Вот, к примеру, что я говорил на этом митинге, обращаясь к собравшимся:
Знаете, кто вы такие? Вы – выпавшая на улицу накипь, по словам Месяца, секретаря Московского обкома партии. Такого же мнения о вас и те, кто потерпел поражение на выборах в Ленинграде. Им подавай после их провала другой народ. Они готовы назвать народ антисоветским. Они готовы народ объявить антинародным. Почему? Только потому, что их «прокатили». Вот они теперь и трусят, боятся уходить в отставку.
Нужно победу на выборах, подъем народного сознания довести до конца.
Сколько здесь рабочих? (Возгласы: «Много!») Они, номенклатурные партийцы, внушают вам и нам, что рабочие – это одно, а интеллигенция – другое. Нас семьдесят лет этим обманывали. И вбивали этот клин, и тех и других эксплуатировали, и тех и других довели до этого кризисного положения.
Не верьте им, когда секретарь обкома, горкома, кандидат в члены Политбюро Мельников или Месяц говорят, что некоторые интеллигенты победили на выборах потому, что у них язык хорошо подвешен, а рабочие (те, которых они хотели ставить, а не настоящие рабочие) потерпели поражение. Вы поняли, чего они хотят? Не позволим им вбить этот клин между рабочими и интеллигенцией!
И последнее. Когда нас всех обманывают, что гласность нужна журналистам и интеллигентам, я скажу так: гласность рабочему классу нужна больше, чем интеллигенции. Гласность крестьянину (мыкающему горе, как говорили здесь) нужна еще больше, а гласность инвалидам, нищенствующим нашим, – еще больше, детям безгласным – еще больше… Без гласности мы не сделаем ни одного шага вперед. Поэтому они так боятся настоящей гласности.
ФОТО № 043
Накануне открытия Первого съезда народных депутатов СССР М.С. Горбачев собрал депутатов-москвичей, «московскую группу». Познакомился с нами, конечно, достаточно поверхностно – иного и нельзя было сделать. Но видно было, что он сам искал, на кого ему в работе на съезде опереться.
То, что происходило на съезде, вынашивалось, копилось, может быть, все 70 лет… и прорвалось!
Особенно бросался в глаза вопиющий антагонизм между депутатами – так называемым «большинством» (его потом стали называть с легкой руки Юрия Афанасьева «агрессивно-послушным большинством») и так называемым «меньшинством». Почему «так называемым»? Потому что, несмотря на очевидную и повторяющуюся пропорцию голосования, я бы не рискнул все же определить эту пропорцию как чисто политическую. Было очевидно, что сама эта агрессивность «большинства» являлась как следствием его неинформированности, так и сознательно проводимой его дезинформации. Мне иногда казалось, что люди относились на съезде друг к другу примерно так, как лет 20–30 до этого первые советские туристы к «иностранцам», когда попадали за границу. Делегатов из провинции заранее настраивали на образ врага, и таким врагом для них выставляли москвичей, и прежде всего тех, кто объединился в Межрегиональную группу. Возглавляли ее Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Борис Ельцин, Андрей Дмитриевич Сахаров и Виктор Пальм (Эстония).
Москвичи в своем большинстве выглядели если и не врагами, то, по крайней мере, «диссидентами». В прибалтах видели «пятую колонну», то же самое думали об армянах, грузинах.
Почти каждому, кто оказался в этом зале, захотелось высказаться с трибуны! И стояла эта трибуна как желанный приз. И если бы не воля председателя и элементарная дисциплина, то все вскочили и встали бы в то самое главное построение, в котором все семьдесят лет и стояли: в очередь.
– За чем стоите?
– Да вот, дают … высказаться.
Руководители областных делегаций обвиняли «москвичей» в каком-то заговоре, обособленности, а сами собирали своих в кучку, угрюмо и ожесточенно проводили «политинформацию». Порой дело доходило до противостояния неправедного, волны ненависти ходили.
Мне как раз совершенно неожиданно пришлось выступить в один из таких моментов организованной ненависти – спланированной, подготовленной серии ударов по Сахарову. При этом так называемое «большинство» в подавляющем большинстве своем, как говорится, просто не было информировано о том, кто такой Сахаров, что он сделал для страны, для Державы, за которую ратовали представители этого «большинства».
Не думали они, что Сахаров – один из главных создателей водородной бомбы, без которой не было бы этой Державы. Если бы они знали это, а потом задумались, что именно Сахаров и был одним из инициаторов ядерного разоружения… Если бы знали они, что этот великий гражданин выступил против войны в Афганистане, где погибали дети этих «державников», если бы знали скольким людям он помог – то вряд ли был бы столь единодушным тот крик негодования, который мы слышали от представителей «большинства» в зале съезда.
Ну, а случилось мое первое выступление на съезде так.
Несколько раз письменно просил слова. Никакого ответа. Приставал к своему другу Анатолию Черняеву, помощнику Горбачева. Тот вроде обещал посодействовать, а потом сказал: да ты подойди прямо к Михаилу Сергеевичу в конце заседания съезда и проси слова.
ФОТО 044
Так и сделал. Первого июня уже в конце рабочего дня съезда подошел к Горбачеву (он все еще сидел на сцене в президиуме, и вокруг него толпились делегаты) и сразу перешел в наступление:
– Михаил Сергеевич, что же это получается, все обещаете, обещаете дать слово, когда?
Посмотрел на меня усталыми глазами и вдруг неожиданно сказал:
– Давай завтра, во второй половине дня.
Помчался домой. Надо написать выступление – тут ведь не до импровизаций. А мысли скачут, одна другую загоняют в угол. Ночь сидел, писал. Утром все казалось недотянутым. Решил еще работать, а жене Ире приказал внимательно смотреть все выступления по телевизору, чтобы ничего не упустить. Тогда ведь вся Москва, Питер, да вообще вся страна сидела у телевизоров, первый канал не выключался ни дома, ни на работе: весь съезд транслировался, и люди смотрели на происходившее как завороженные.
Так вот, я в своей конуре бьюсь над текстом. Ира смотрит и записывает на видео все выступления и вдруг кричит: «Юра, Сахарова убивают».
Сорвался, понял ее крик буквально. Вижу: заканчивает свое выступление депутат от ВЛКСМ Червонопиский, член комитета по делам воинов-интернационалистов и бросает в адрес Сахарова убийственные слова: предатель родины, нет ему места среди нас. Да здравствует наша держава! А потом еще какая-то дремучая девица что-то мямлит, вторя ему. И на этом закрывают заседание. Лукьянов (вел заседание съезда) объявляет: первым после обеда выступает Карякин.
Заготовленное выступление летело к черту. Надо было отвечать и защищать Сахарова. Времени оставалось в обрез. Уже пришла машина. «Упакованный» в цекистском гараже шофер, которого Ира увела на нашу пятиметровую кухню попить чайку, смотрел на нас с нескрываемым презрением. Тоже депутаты! Голь перекатная… Не квартира, а конура какая-то. У депутата не только приличного галстука нет, но и костюм потертый. Кого возить приходится!
Поехали. Дорогой придумал ход. Когда-то дед учил меня, как «водить» большую рыбу на крючке. Водить ее, мотать, отвлекать, а потом внезапно выдернуть, чтобы с крючка не сорвалась. Так и сделаю. Повожу этих депутатов «агрессивно-послушного большинства», а потом – хук!
Успел к самому началу заседания второй половины дня. Шел через зал, как сквозь стену вражды и ненависти. На трибуне собрался и, отложив бумажки, начал «водить» депутатскую рыбу:
Товарищ президент, народные депутаты, избиратели! Куда девались те времена, когда наш Генеральный секретарь и президент становился трижды Героем Советского Союза и получал орден Победы за то, что его подвиги в фильме прекрасно изобразил актер, которому за это исполнение дали звание Героя Социалистического Труда? Куда девались те времена, когда за Брежнева писали книги, а он получал за них Ленинскую премию по литературе и вручал ему эту премию Марков, а потом сам Марков получал звание Героя Социалистического Труда от свежеиспеченного лауреата? Куда девались те времена, когда на книгах о генсеках делали карьеру, когда даже Черненко издавал труд о торжестве прав человека в Советском Союзе, а один из самых известных журналистов приходил от этого труда в неистовый восторг?
Если бы человек, не знавший обо всем этом, попал сейчас на наш съезд, то, я думаю, он бы решил, что нет никого виноватее во всех наших бедах, чем наш Генеральный секретарь.
Но ведь впервые все происходит на глазах всего народа – настоящий форум. Резко ускорился процесс размистифицирования власти. Однако возникла и опасная тенденция. Раньше люди так привыкли блюдолизничать перед генсеками, что теперь считают обязательным хамить новому. (Аплодисменты.) Хотя и сейчас блюдолизов много. Кстати, один из них, увидев месяц назад, как Михаил Сергеевич попрощался со мной за руку, тут же решил предложить мне пост главного редактора очень серьезного журнала. (Аплодисменты.)
Когда я говорю о хамстве, честное слово, я никого, особенно здесь, не имею в виду. Я просто вижу, чувствую эту тенденцию и очень, очень ее боюсь. Хорошо бы, заметив ее, покончить с ней с самого начала. Критерий прогрессивности не в огульной критике Горбачева, а в конструктивной помощи делу деловым же образом. Тем более что мы сами убедились воочию, что действительно нет закрытых зон для критики.
Я очень поддержал бы инициативу Горбачева, если я правильно ее понял, на предпоследнем, на апрельском Пленуме – публиковать материалы заседаний ЦК полностью. (Аплодисменты.) Мне кажется, это поможет нам найти конструктивные пути соединения, того очень трудного соединения народной Советской власти и партийной, потому что проблема разделения стоит, и никуда от нее не денешься. Не будем питать иллюзий, что мы власть, а вы кто же, товарищи из Политбюро? Наверное, тут должно быть какое-то очень конструктивное, а не нигилистическое решение.
Я очень уважаю Юрия Власова. А требование об импичменте мне, честно говоря, представляется из области мечты. Наш импичмент в старые века определялся так: у нас монархия, ограниченная удавкой, помните? А наш нынешний импичмент – это что-то вроде 14 октября 1964 года. И то в лучшем случае, если все говорить до конца. (Аплодисменты.)
Михаил Сергеевич! У меня к вам просьба как к президенту. Я хотел бы, чтобы наш съезд поддержал ее. Просьба такая: вернуть российское наше гражданство человеку, который первым осмелился сказать правду о сталинщине, который первый призвал и себя, и нас не лгать, – великому писателю земли русской, великому гуманисту Солженицыну. (Аплодисменты.)
Вы нашли общий язык с «железной» леди, вы нашли общий язык с Бушем и Рейганом, вы нашли общий язык с папой римским – они же не перестали быть антикоммунистами, – и нашли этот язык на почве гуманизма. Неужели мы с Солженицыным, с великим гуманистом, не найдем на этой почве общего языка?
Давайте подумаем о том, что если бы жили сейчас Пушкин, Достоевский, Толстой, то неужели бы мы с вами им понравились? Ну и что? За это их выслать? Мне кажется, мы не простим себе (мысль не моя, впервые высказана Астафьевым), мы не простим себе никогда, и потомки нам не простят, если мы не сделаем этого.
Меня давно мучает еще один вопрос. Меня отговаривали говорить о нем. Простите, но я все-таки решусь. Еще в детстве я узнал один тихий, почти абсолютно забытый нами факт. Сам Ленин хотел быть похороненным возле могилы своей матери на Волковом кладбище в Петербурге. Естественно, Надежда Константиновна и Мария Ильинична, сестра его, хотели того же. Ни его, ни их не послушали. Произошло то, что произошло. И это было еще одним, не сразу заметным, не сразу осознанным моментом нашего расчеловечивания. Была попрана не только последняя политическая воля Ленина, но была попрана его последняя личная человеческая воля. Конечно, во имя Ленина же.
Вы только представьте себе, что бы он сам сказал, как бы он поступил с теми, кто это сделал? Он лежал там, внизу, а наверху расхаживал палач в мягких сапогах, а потом и сам улегся рядом. Буфет еще там был, потом убрали. Вот бесовщина. Мавзолей с телом Ленина – это не ленинский мавзолей, это еще по-прежнему сталинский мавзолей.
Идеологических, политических доводов можно против этого набрать тысячу. Человеческих доводов нет ни одного. Меня предупреждали: народ не поймет. Народ-то и поймет! Уверяю вас. Сам поймет. Один этот тихий, забытый нами факт, что Ленин хотел лежать по-людски, – неужели мы это не поймем? Танки ходят по Красной площади, тело содрогается. Ученые, художники лепят это лицо – это же кошмар. Чтобы создавать видимость, а там ничего нет, страшно говорить об этом. Но пускай покоится это тело там по его, ленинской воле. И если бы я был верующим, и если бы душа была бессмертной, она бы вам сказала спасибо. (Аплодисменты.)
Другая мысль еще более еретична. Если бы мы не потеряли память, если бы не убили совесть, а совесть – это совесть, – то мы должны на Лубянке, на здании том, выписать, именно там выписать имена сорока (точной цифры мы не знаем) миллионов погибших по приказу Лубянки. Если бы кровь та потекла и на Лубянке вытекла, снесло бы ее, Лубянку. И наша честь национальная, социальная, человеческая потребует этого, и я убежден, что так и будет.
Сколько у меня осталось? Три минуты? Я получил письмо. Предлагают принять резолюцию Съезда с осуждением академика Сахарова. Письмо такого содержания: «Господин Сахаров, все Ваши заслуги перечеркнуты одним Вашим кощунственным заявлением. Да, Вы один из создателей водородной бомбы, без которой не было бы мощи нашей великой державы. Да, Вы по праву носили награды Родины, которая сделала Вас трижды Героем Соцтруда. Да, Вы являетесь одним из инициаторов запрещения ядерных испытаний в трех средах. Да, Вы были против вступления наших войск в Афганистан. Да, Вы были защитником демократии и гласности, но все это теперь перечеркнуто. И скажите спасибо, что мы не ссылаем Вас в Горький, не высылаем за границу».
И второе письмо мне дали, когда я шел сюда. «Ежедневно афганская война убивала и калечила десятки наших и сотни афганских людей. Сокращение ее, хотя бы даже на день, спасло их от этой участи. От имени всех оставшихся в живых людей, их матерей, жен, невест, от имени их будущих детей – русских и афганских – великое Вам спасибо, Михаил Сергеевич, и Вам, Андрей Дмитриевич! (Аплодисменты.)
Брежневская клика начала войну в Афганистане, теперь, чтобы скрыть свою преступную роль, она переключает внимание народа от себя. Все. (Аплодисменты.)
Все. Пошел с трибуны. Пиджак и брюки сзади мокрые от пота. Жуткое ощущение выигрыша и сразу дикое ощущение: не дотянул. Надо было «водить» чуть-чуть не так. Надо было начать так: «То, что здесь произошло с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, заставляет меня сказать ему всю правду до конца, тем более что я был его доверенным лицом во время выборов, а он был моим доверенным лицом. И я просто обязан сказать ему всю правду в лицо». Тогда бы все мои отвлекающие маневры, несмотря на всю их дерзость, держали бы их в напряжении в ожидании последнего слова об АДС. И тогда бы этим последним словом и было – вот вам и вся правда. Спасибо.
Все это – присказка к фразе из дневника: «Меня воровато перекрестил Питирим”. Дело в том, что Ира и Алесь знали, что я намерен говорить о мавзолее. Ира умудрилась утром в день, когда мне надо было выступать, дозвониться до Алеся и умоляла его уговорить меня не говорить о мавзолее. Алесь попытался это сделать, но я его послал куда подальше. Рассказал о замысле Чингизу Айтматову (тот одобрил) и случайно повстречавшемуся мне отцу Питириму.
Ну вот, пошел я через зал к выходу, чтобы покурить. Шел как сквозь вязкую отталкивающую стену. Ноги подкашивались. Еще во время выступления почувствовал, что от напряжения внутри что-то оборвалось и будто прилипло к спине. Потом врачи сказали, что тогда на ногах перенес первый инфаркт.
Спустился в туалеты-курилку и увидел знаменитого хирурга Амосова. Мы были очень поверхностно знакомы, но почему-то он мне симпатизировал. Глядя на мои жадные затяжки, покачал головой и сказал: «Юрий Федорович, дорогой, оставьте-ка вы это дело. Хотите снять напряжение? Выпейте лучше коньячку. Пойдемте наверх, я вам подарю. У меня есть, больные всегда приносят хирургам коньяк». Конечно, не отказался и хорошего коньячку выпил. Может, это и помогло тогда. Как-то оклемался, о болячках думать было некогда.
Помимо ежедневной и очень напряженной работы на самом съезде, я включился в организацию межрегиональной группы. Сегодня о Межрегионалке, первой оппозиционной партии новой России (тогда еще в составе СССР), мало кто вспоминает, а тогда страсти вокруг нее бушевали. «Агрессивно-послушное большинство» съезда отвергало все предложения демократов. И тогда Гавриил Попов предложил сформировать независимую депутатскую группу – межрегиональную. В дремучих мозгах большинства номенклатурных депутатов по подсказке их партруководителей вспыхнуло давно забытое и столь зловещее для них слово – ФРАКЦИЯ! Сам Горбачев не удержался от этого: «Вы что, хотите создать фракцию?» На что Попов ответил: «Хотите партию оппозиции – вы ее получите».
Конечно, Межрегиональная депутатская группа (МДГ) получилась весьма аморфной. Число постоянных членов колебалось от 200 до 250, а всего депутатов на первом съезде насчитывалось 2249. Несмотря на свою относительную немногочисленность, МДГ стала в определенный момент истории нашего первого «парламента» довольно внушительной силой. Ведь в нее входили Сахаров и Аверинцев, Собчак и Вяч. Иванов, Юрий Афанасьев и Николай Шмелев, Александр Гельман и Гавриил Попов, Юрий Болдырев и Юрий Рыжов, Марк Захаров и Виктор Пальм… целая плеяда ярких политиков, ораторов, «прорабов перестройки».
ФОТО № 20
В июле состоялось двухдневное собрание МДГ, где обсуждался вопрос о том, как относиться к власти и к самому Горбачеву, каковы должны быть действия демократической оппозиции. Выявилась крайняя разнородность группы, в том числе и в вопросе о ее лидерстве. Взоры большинства были, конечно, обращены прежде всего к Ельцину, ведь именно он собирал многотысячные митинги, на которых народ скандировал: «Ельцина – в президенты!». И как уже тогда отметил Ю.Афанасьев, Ельцин стал второй после Горбачева политической фигурой в стране. Но героем столичной интеллигенции он не был: его прошлая партийная карьера и определенная идеологическая отчужденность от столичных демократов мешали его избранию председателем, т.е. руководителем, демократической оппозиции. Согласились на «коллегиальное руководство»: избрали пятерых (из 13 кандидатур) сопредседателей: Ельцин (144 голоса), Афанасьев (143), Попов (132), Пальм (73), Сахаров (69). Был избран также Координационный совет, в который вошли сопредседатели и еще 20 депутатов (в том числе и я).
ФОТО № 47
На июльском собрании депутатов-межрегионалов было много споров, в основном по организационным вопросам. Я, помнится, выступил с таким вот предупреждением: начиная с 1985 года интеллигенция, получив расширяющуюся свободу слова, просвещала по большей части самое себя, точнее – восхищалась собой. Не занималась просвещением народа. Интеллектуалы не сумели решить главную интеллектуальную же задачу. Самолюбование, самовосхваление оказались сильнее.
До второго, сентябрьского собрания Межрегионалки я уже не добежал.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
7 августа 1989 случился у меня инфаркт. Обширный. Произошло это на заседании Координационного совета Межрегиональной группы в кабинете ректора РГГУ Юрия Афанасьева в старом здании университета на Никольской.
Накануне чувствовал непривычное жжение в груди и отчаянную слабость. Случайно зашел сосед Леша. Жена у него врач, да и сам он дока в делах медицинских. Посмотрел на меня и как-то очень серьезно моей жене: «Немедленно вызывай «скорую». У него же предынфарктное состояние». Я, конечно, ни в какую. Какого черта! Я здоров. Просто устал немного. В Москве жара, а мы с нашей Межрегионалкой не вылезаем из прокуренных помещений.
Все-таки Ира вызвала «скорую». Приехали два молодца. Я решил их угостить чаем. Ведь к тому времени я уже лет пять как не пил и потому позволял себе чай-чифирь. Ребята-медики оценили, но предложили все-таки сделать электрокардиограмму.
Тут меня будто черт подтолкнул: «Какая кардиограмма! Да я сейчас покажу вам, как здоровые мужики отжимаются». И отжался, дурак, 20 раз. Ребята посмеялись. Уехали. Я залег, а утром, чувствую, не могу встать. Жуткая слабость. Но надо было ехать. Вызвал машину и поехал. А уже на самом заседании понял – каюк…
Под предлогом покурить вышел в предбанник афанасьевского кабинета. Успел еще секретаршу Марину попросить постелить мне на пол газеты (эстет хренов) и рухнул. Марина подняла шум. Все выскочили. И Гдлян (был у нас такой знаменитый депутат-разоблачитель), заявив, что знает, что в таких случаях делать, начал мне массировать сердце и делать искусственное дыхание. Явно теряю сознание, все мутится… Последняя мысль: «Господи, неужели это последнее, что увижу в жизни, – лицо Гдляна?»
Юра Афанасьев вызвал реанимационную. Отвезли в Склифосовского. Там врачи всадили мне какое-то новое лекарство, купирующее разрыв сердечных сосудов. Спасли.
Потом провалялся еще месяца полтора в ЦКБ и реабилитационном центре санатория им. Герцена. Туда уже приходили друзья. Ира таскала книги, соки… Вроде оклемался, но чувствовал, что стал каким-то инвалидом. Все было непривычно. Задыхался. И тут моя врач Полина Андреевна Щукина серьезно как-то сказала: «Хотите вернуться к нормальной жизни – решайтесь на операцию на сердце». Мысль запала, а как ее реализовать – не знал. Стал думать.
ФОТО № 24
В те дни получил письмо от Алеся Адамовича:
«Дорогой Юра!
Хотел бы привычно обругать тебя «бандитом» и пр. Да рука не поднимается. Как представлю тебя под капельницами и со всякими там хрипами. Это ты-то, который так славно уложил на землю пяток спортсменов, которые даже братьев Климовых уронили на ту же землю (по рассказам свидетелей, за которых не отвечаю).
Нет, все равно ты человек безответственный. Видел сиамских близнецов Дашу и Машу по телевизору? Представь, что одна из них (тьфу, тьфу) подхватит сифилис или что-либо похожее. А сосуды-то одни, а все прочее – тоже. Какое право ты имеешь доводить себя до инфаркта и т.п., если у меня с тобой «сосуды» давно общие? Мы не только, надеюсь, в книгах-статьях-выступлениях сообщающиеся сосуды, но и более материально. Так какого же ты хрена! Прости, господи!
Ну, а раз уж допустил, давай отпускайся. Нервы – раз, ночные бдения – два, чай-кофе в карякинских дозах – три… Это запрещается. Для утешения – читай «Пастораль», пей кефир и все прочее, что делает твоя «Даша». Она еще и пишет новую повесть, эта штука будет посильнее даже любимой тобой «Пасторали». Вмажу по сталинско-егоро-кузьмичевским …со всего маху – это мое будет участие в принятии закона о землепользовании.
Юрочка, поправляйся так, чтобы мы тебе вернули все: и чай, и кофе, и прочее, прочее.
Обнимаю. Саша».
Операция на сердце в Кёльне
Как только меня залатали, вернулся в Москву, в свою конуру на Перекопской. И чуть ли не в первый день по прибытии вызывает меня Андрей Дмитриевич. Дело важное и очень срочное.
ФОТО № 18
Оказалось, Сахаров собирает депутатов для вынесения решения о всеобщей забастовке. Тут мы впервые, пожалуй, с ним разошлись. Его идею о всеобщей забастовке я не поддержал, за что тут же был заклеймен темпераментной Люсей (Еленой Боннер) как предатель. Но это не помешало нам обсудить многие другие вопросы. Ушли от него с Ирой поздно…А через несколько дней – ужасная весть: умер Андрей Дмитриевич, внезапно, от сердечного приступа. На его похоронах долго, всю церемонию, стоял у гроба… и вновь схлопотал инфаркт. «Скорая», больница, два месяца на койке. Стало ясно: без операции на сердце жить не смогу. Денег на операцию, естественно, не было. Помогли немецкие социал-демократы и Лев Копелев, да еще Е.М. Примаков, у которого среди многих хороших человеческих качеств есть два первостепенных: чувство дружбы и ответственность, помощь тем, кто серьезно заболел.
Впрочем, ограничусь кратким газетным отчетом:
ПОСЛЕ ТРЕХ ИНФАРКТОВ…
В университетской больнице Кёльна один из крупнейших немецких хирургов, доктор Вивье, сделал сложнейшую четырехчасовую операцию народному депутату СССР Юрию Карякину. Он приехал в ФРГ по приглашению депутата бундестага Герда Вайскирхена для участия в симпозиуме «Мир без врагов».
Немецкие коллеги знали, что Юрий Карякин недавно перенес тяжелый инфаркт, и в Кёльне самочувствие народного депутата не улучшилось. Тогда они организовали депутату обследование в университетской клинике. Помог и Лев Копелев, самоотверженно выполняющий роль «скорой помощи» для многих наших в Западной Германии. Дело это, кстати, непростое – ведь у Карякина не было ни страховки, ни валюты, чтобы оплатить исследование и операцию. Врачи установили, что депутат за полгода перенес три инфаркта, причем два скрытных – на ногах. Проводившие обследование профессор Хильгер и хирург Вивье решили: нужна операция, чтобы заменить изношенные сосуды.
Операция, которую пациенту из СССР сделали бесплатно, оказалась успешной. Юрий Карякин поправляется.
«Московские новости», 15 апреля 1990.
ФОТО 026
Конечно, спасли меня доктор Вивье и немецкие товарищи, и все-таки главным спасителем был Лева Копелев. Приютил нас с Ирой на несколько месяцев в своем доме в Кёльне, поручился за меня перед Университетской клиникой (не знаю, вносил ли какой-то залог), после операции помог выходить меня, организовал вместе с дочерью экс-председателя парламента Вайскирхена реабилитацию в санатории Бадберлибурга. Трогательно опекал меня после отъезда Иры в Москву, потом возил с собой на семинары, интервью, познакомил с прекрасными людьми.
ФОТО № 28
В те дни много говорили с Левой. Как правило, суждения наши совпадали. Лева поражал своей энциклопедической образованностью и одновременно детской наивностью. Почувствовал, что есть у него две боли: очень хотел, чтобы вернули ему гражданство, хотел приехать в Москву, хотел закончить свой жизненный путь на родной земле. Так в конце концов и получилось. В августе 1990 года указом Горбачева ему вернули советское гражданство. Похоронили мы его в Москве, на Донском кладбище, в июле 1997-го.
Вторая боль его была вызвана разрывом с Александром Исаевичем Солженицыным. Собственно, разрыва полного не было, но какая-то отстраненность со стороны «друга по шарашке» с годами обозначилась. Отстраненность началась с определения каждым из них своих идеологических позиций, которые во многом оказались разными. Впрочем, об этом можно узнать из напечатанных писем, порой довольно острых, бывших «шарашников» друг другу.
Тогда-то я дал себе зарок при первой встрече с Александром Исаевичем обязательно выяснить, в чем кроется причина накопившихся недомолвок, обид, явно несправедливых молчаний. И когда два года спустя я оказался в США и помчался к Исаичу в Вермонт, в своих «пунктах» разговора с ним на одно из первых мест поставил Копелева. Дважды – обиняком и прямо – спрашивал его о Леве. Дважды получил уклончивое молчание, будто и не называл имени Лева. Понял: не ваше это дело, Ю.Ф. (так Александр Исаевич звал меня еще со времени наших первых встреч в Рязани и Москве в начале 60-х годов).
Лева подарил мне новую жизнь. Собственно, 22 марта, день операции на сердце, я считаю своим вторым днем рождения. А вот сказать ему об этом никогда не доводилось. Все больше говорили о политике, о людях, о его и моих планах, замыслах… И только когда случай заставил, один добрый – 85-летие Льва Копелева, другой страшный – его смерть, высказал печатно малую толику того, что думаю об этом прекрасном человеке.
«А СЕРДЦЕ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ»
К 85-летию Льва Копелева
В жизни каждого человека есть такие «узловые точки», которые разом открывают скрытое в нем, разом выявляют и разрешают его противоречия.
Одну из таких «точек» в жизни Льва Копелева мне посчастливилось увидеть воочию. В апреле 1990 года вдруг приходит Копелеву посылка: черный хлеб и икра. Отправитель – немец из давней «мавринской шарашки», описанной А. Солженицыным в романе «В круге первом». Там, кроме Нержина, Сологдина, Рубина (их прототипы – А. Солженицын, Д. Панин, Л. Копелев), было и несколько пленных немцев. На Рождество (декабрь 1949) нашим дали новогоднюю пайку, немцам – нет. Рубин поделился с ними своей.
И вот через сорок лет – эта посылка… Лева заплакал.
Как все переплелось в одном этом факте! Лева с ними, с немцами, воевал. Они его ранили. Они были для него смертельными физическими врагами. Они оставались для него врагами идеологическими. Он их даже и на шарашке пытался обратить в свою коммунистическую веру…
Как все переплелось: он не только насквозь русский человек, но и, можно сказать, прирожденный, призванный германофил…
…Каждый год первого апреля на даче Чуковских в Переделкине отмечался день рождения Корнея Ивановича. Но чем ближе к 80-м, тем уже становился круг встречавшихся. Все чаще день рождения становился днем прощания с теми, кого выталкивали, выдавливали в эмиграцию. В 1980 году прощались с Копелевыми – Левой и Раей. Казалось, навсегда.
Но в конечном счете ему все-таки посчастливилось: Германия – его вторая родина. Именно здесь произошел невероятный взрыв его невероятных способностей. Написаны воспоминания, книги, статьи и начато многотомное исследование о немецко-русских культурных взаимоотношениях. Фактически один (с тремя друзьями-сотрудниками, которых он называет «мое политбюро») он делает работу целого института.
Эрудиция Копелева легендарна, фантастична. Когда говоришь с ним по вопросам культуры, не нужна никакая энциклопедия, никакой Интернет… Вспомним еще раз «В круге первом»: после того Рождества – «Как был, держа в руках монголо-финский (!) словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор»…
…Еще одна «узловая точка Льва Копелева: его любимейший герой – «русский немец» Федор Гааз (наш, можно сказать, Альберт Швейцер). В каком бы месте Германии мы с ним ни были, его узнают и приветствуют буквально на каждом шагу. Награда заслуженная, выше которой, вероятно, и нет. Генрих Бёлль был его ближайшим другом. Тоже награда.
Я почти не знаю другого человека, при одном упоминании имени которого у людей, знающих его, так светлеют лица. Невольно вспомнил из «Преступления и наказания»: озлобленный, затравленный Раскольников вдруг говорит Разумихину: «Ты всех их добрее, то есть умнее…»
Когда в 1990 году я почти умирал, никто не помог мне больше, чем он. Как брат, как отец…
Почти все, кто знает его, зовут обычно Лева. И это не вульгарность, не панибратство. Это просто дань какой-то его открытости, откровенности, дань человеку без задних мыслей, вечно юному ярому спорщику.
Какой долгий, тяжелейший путь
к истине он проделал! Перечитайте «В
круге первом». Я, конечно, не отождествляю
Копелева с
Его позиция в отношении ввода советских войск в Чехословакию, войны в Чечне была бескомпромиссна. Его голос в защиту А. И. Солженицына, А. Д. Сахарова, Л. К. Чуковской, А. Марченко, П. Григоренко и многих других, им подобных, был столь же для него естественно-мужественным.
Теперешнее паспортное двойное гражданство Копелева – лишь формальное закрепление его изначального двойного гражданства в русской и немецкой культуре.
…Немыслимо, но как радостно, что ты, Лева, жив и могуч в свои 85.
Есть все-таки правда и на земле.
Дай тебе Бог. Дай тебе Бог.
«Литературная газета», апрель, 1996
Летом 1990-го после прекрасного курса реабилитации в санатории Бадберлибурга я вернулся из Германии в Москву. Впрочем, 60-летие (22 июля 1990 года) встречал еще в ЦКБ. Думается, это была перестраховка уже наших врачей. Туда приехали ко мне друзья. Помню, как на Ирином «жигуленке» прикатил с огромным букетом роз Юлик Ким и мы с ним выпили коньячку. А потом пожаловала царица журналистики Ольга Кучкина и, конечно, взяла интервью. Из всех моих интервью я это особенно люблю, как и самого интервьюера. А потому хотелось бы видеть его в своей книге. Вот оно:
Он вышел из комнаты под видом покурить – там заседала межрегиональная депутатская группа, а ему не хотелось никого смущать. Ему было уже очень больно, и он лег на пол, успев попросить девушку-секретаря подстелить газеты. Его везли в Склифосовского, в реанимацию, без сознания. Если бы там, на его счастье, не оказалось заграничного лекарства, он бы уже был мертв.
– С тобой произошла такая страшная история – ты практически умер и воскрес… Какой это след в тебе оставило? Что дал этот новый опыт?
– Ну, дело довольно простое. Был инфаркт. Чуть-чуть выходили. А дальше я решил преодолеть этот инфаркт, так сказать, идеологическими средствами. Как всегда мы делаем. То есть проявить волю, характер, осуществить вмешательство «партии» – у меня ведь своя внутренняя «партия». Наверное, моя модель за последний год – это модель нашего общества, нашей экономики. Я был уверен, что самовнушением обуздаю организм. Прилетел в Кёльн по приглашению замечательного человека, депутата бундестага, социал-демократа Вайскирхена, выступил на конференции, почувствовал себя плохо, сделали коронарографию, оказалось, не один инфаркт, а три, нужна операция, и никакая идеология не поможет.
ФОТО 70
– Природные законы оказались сильнее…
– Сердце – насос, а не идеологическая конструкция, оказалось, что лечить его надо технологически. Перебью себя: вся наша «мудрость» состояла в том, что технологию жизни, даже психологию, даже физиологию жизни, выживания, развития общества мы заменили идеологией. Неправильно поставлен диагноз: у нас не один инфаркт, а много, на фоне общего рака, во всяком случае экологического. Это во-первых. И во-вторых, лечить нас нужно технологически. Ни «капитализм», ни «социализм» – при чем тут это?
– Я хочу вернуться к проблеме смерти. Мы в нашем веществе как бы исключили ее из сознания. Исключили из литературы, искусства. Скажем, отменили жанр трагедии. Всем было предписано быть настолько счастливыми, или обобществленными, что смерть, как и Бога, вычеркнули из жизни…
– Замечательно сказано у Коржавина: даже смерть отнеся к проявлениям старого мира… Отдать жизнь за родину – это моему поколению было понятно. Но это как-то не равнялось смерти. Да, смерти не было. Господствовало убийство, а смерти не было. И это одно из главных преступлений. Потому и не было жизни. Это связано. У меня в книге «Достоевский и канун XXI века» лейтмотивом проходит – и даже глава так названа – «Встреча со смертью». Переживается, обдумывается встреча Достоевского со смертью, без чего, по-моему, необъяснимо его творчество. Без этого вообще многие, вернее, главные вещи непознаваемы, непостижимы. Тут очень боишься простоты – а ее не надо бояться, это не простота, а элементность – не элементарность; без встречи со смертью не может быть ничего, нравственности быть не может. Я так долго думал об этом, что как будто накликал смерть, а накликая, предуготовился к этому. Действительно, было чувство, что я готов. Странная вещь; вот мне сейчас шестьдесят, а я все это уже знал, потому что умирал в девять лет. У меня был дифтерит, я был безнадежен. В палате нас лежало четверо, и трое умерли, я их всех помню, как вчера. А я три раза умирал. Там есть такой приступ, когда задыхаешься, и все. Когда я потом прочитал «Жизнь после жизни» и у Толстого, как улетает душа в какой-то тоннель, это я точно знаю, я сознавал, я видел: она улетает, а ты остаешься и видишь себя, тело свое видишь. В девять и в шестьдесят разницы в этом отношении никакой. Я помню тогда спросил: мама, я умираю, а ты куда?.. А в этот раз было чувство жуткой досады, что не успел доделать то, что, наверно, не мне одному нужно.
– Твоя жена говорила мне, что здесь, в больнице, и там, в клинике, в Кёльне, ты наговорил тридцать часов пленок. Одну из них – на третий день после операции, когда ты думал, что снова умираешь, она начала слушать – и не могла: так страшно…
– Я был опутан проводами, проводочками, как муха в паутине, боль дикая, пульс 180, и не думаешь о смерти, а выдернуть все из какой-то колбы, чтобы прекратить это непереносимое состояние… а диктофон не выключил…
– Что ты почувствовал, когда вернулся «с того света»?
– Как хорошо у вас на этом свете!.. Все то же, что отчеканил Достоевский после отмены казни 22 декабря 1849-го: «Жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья».
– Мне хотелось попросить тебя поделиться хотя бы частью «последних» твоих мыслей… о себе, о поколении…
– Очень трудно… У меня есть любимый образ сжатой пружины: скрутить мысль так, чтобы было как цилиндр, кто-то снимет упор, пружина выстрелит. Так вот, в дни, о которых ты говоришь, я вдруг начал сперва исписывать блокноты, потом наговаривать пленки. Было дикое чувство недоделанного и дикий, почти животный расчет додумать, доделать… Ты назвала – поколение. Смею сказать, что поколение это абсолютно уникально не только в истории Страны Советов, не только в истории России, но и в истории человечества. Это не гордыня. Это ужас и магнит ответственности. Сама подумай: никогда не было, разве только у ранних христиан и у французских революционеров, таких чаяний и таких надежд, как у нашего поколения. Определюсь: я 30-го года. Плюс-минус 10 лет – считаю, наше поколение, поскольку время спрессовало, сжало нас. Люди, которые раньше казались мне недосягаемо впереди или недосягаемо позади, оказались в одном со мной поколении. Смешно, Володя Высоцкий на восемь лет меня младше…
– Ты чувствовал какое-то превосходство?..
– Нет, нет! Это он, это он, будучи человеком внутренне очень деликатным, давал дистанцию. Забегая вперед, могу сказать, что он стал моим младшим учителем.
– Это произошло, когда он умер?
– Нет, раньше, может быть, неосознанно. Я узнал его в 64-м, когда ему было 26, а мне 34. Я уже поработал в Праге, в «Проблемах мира и социализма», идеолог, политик. А он пел… Он был для меня воплощением возможности невозможного. У него было родное им всем, и Мандельштаму, и Пастернаку, чувство: идет охота на волков. Была травля, была охота. Но – «я из повиновения вышел». Он первый выскочил из этого, почувствовал восторг свободы. «И остались ни с чем егеря», понимаешь? И мы, старшие, с каким-то недоверием: приснилось, что ли? А он не боится, он идет. Они стреляют, а он идет, один, по канату и хохочет при этом! Он был осуществленной дерзостью. Не политической, черт с ней, – человеческой…
– Эта жуткая плата – водка, наркотики, – это именно плата за прорыв к абсолютной свободе в условиях абсолютной несвободы…
– Безусловно, это сверхнагрузки. Был Володя Высоцкий, был Толя Якобсон. Тоже младший учитель. Так случилось, что он жил в доме, где я поселился в 60-х. Почти каждый день он приходил ко мне: можно, Юрий Федорович, я вам почитаю? Сначала Юрий Федорович, потом Юра, при разнице в пять лет. И читал всю мировую поэзию. Его очень любил Самойлов, он был любимец Лидии Корнеевны Чуковской. Безумно талантливый человек. «Царственное слово» – его эссе об Ахматовой. О Блоке – художественное исследование. Друг Юлика Даниэля. Вот его «объективка». У них свои «объективки», у нас свои. Он уехал за границу и повесился… Еще Юлик Ким, слава Богу, есть…
– Сравнение поколения с ранними христианами – по степени напряженности мироощущения, по перевороту?
– И то, и то. Только у христиан растянуто. А тут – на одном пятачке. Это первое. Второе: никуда не денешься – одна из самых страшных в истории человечества войн, она же нас проутюжила всех, и тех, кто участвовал, и кто не участвовал. И, наконец, третье: на жизни одного поколения – полный пересмотр всего. Вот цифры – смотри, в них судьба. В 37-м мне сколько? Семь. Что я понимаю? Я только помню музыку 37-го года. Эта музыка состоит из двух мотивов: радость жизни, мама, бесплатный морс во время выборов в буфете, праздник и – какая-то жуть, какой-то страх. Шепчутся, происходит что-то непонятное, исчезают люди. Я в провинции жил, в Перми, все на виду. Туда нельзя, у тех дядю увели. Шу-шу-шу по двору – взяли у Кайгородовых, старый большевик, вдруг исчез. Опять радость – пионерлагерь, а старший вожатый – исчез: враг народа – шепотом. В 41-м мне одиннадцать, игра «бежим на фронт». А в 56-м мне уже 26, я женат, не хватает денег, и вдруг: вся страна – концлагерь, и ты жил не так. Ничего себе! В 56-м казалось: еще чуть-чуть, вот Бухарина реабилитируем, и засияет солнце справедливости. Дальше 29-го самые смелые заглядывали, остальные пробавлялись 37-м, ну еще 34-м. Ни о какой экономике, о праве не было и речи. Там были иллюзии – рухнули, потом опять иллюзии – рухнули. Счастье было, что мы ввязались в драку, четверо в философской аспирантуре МГУ. Плимак, Пантин, Филиппов и я пошли против своих научных руководителей, оказавшихся доносчиками, стукачами, фальсификаторами. Я убежден, из человека ничего не выйдет, если он в юношестве, в отрочестве не пойдет один против всех. Это не рациональное упражнение, а именно безрассудный порыв. Если вмешается расчет, он убьет. Без этого может не получиться судьбы. И обязательно там, в юношестве. Потом дооткладываешься. Это глупо, отчаянно, бессмысленно, а после оказывается, это росточек, из которого все вырастает. Я помню одного, умницу, многие уступали ему по способностям, он должен был быть пятым, он сказал: ребята, вы правы, но у меня жена и дети, я не могу. Классическая фраза. Мы даже зауважали его за прямоту, не обсуждали, не корили, а тихо растерялись. Он сделал фантастическую карьеру,– сейчас, правда, потерялся. И что? Ничего. Лет двенадцать назад мы встретились, от него чуть-чуть зависело то, что было в наших с Элемом Климовым планах, – фильм «Бесы»…
– И он не дал…
– Не просто не дал – сподличал…
– Это все написано у Зиновьева в «Зияющих высотах». Модель одна и та же: система душит вас не руками кого-то верхнего – руками ваших же коллег, завистников, с внутренним червем, они не хотят, чтобы кто-то высовывался… Как же развивалось твое личное противостояние?
– У нас все слиплось во лжи. Когда ты умнеешь, ты не избавляешься от лжи, а умнее лжешь. Даже вроде мудрость: ну не будешь же ты выступать, когда и так все ясно. Такой «общественный договор» между всеми. А раз он есть, ложь не будет уменьшаться, а будет только видоизменяться. Стало быть, увеличиваться. И ты уже тонешь в ней. Ты пропал. Всегда можно найти людей хуже себя и удовлетвориться этим. Это путь самоубийственный. Отвратительный, гордынно-глупый, помимо прочего. Мне кажется высоким, и негордынным, и не унижающим путь сравнения себя с людьми, воплощающими идеал, недосягаемыми, но зато тянешься и делаешь больше, чем, тебе казалось, ты способен. Тем более что этим людям свойственно создавать вокруг себя почти физически сгущенную атмосферу духа, при которой человеку, даже не близкому им, далекому от них, неудобно сказать глупость – лучше промолчать, неудобно поступить безнравственно. Я это физически ощутил, когда потерял их, – это ощущается при потерях, – уехал Эрнст Неизвестный, уехал Коржавин, люди, с которыми я все время близко общался. Не говоря уже об Александре Исаевиче. Они – Солженицын, Сахаров, Лидия Корнеевна – вот счастье…
– Твое поколение называют поколением шестидесятников. И еще – детьми XX съезда. А молодые, если не все, то многие, относятся к этим понятиям иронически…
– Думаю, они правы. Если только «дети XX съезда», который, конечно, означал колоссальный прорыв, но и колоссальную самоограниченность, просто ограниченность, примитивность, то, конечно, в этом сеть нечто комическое. Дитя… съезда. В самом деле смешно. Вот Полозков – действительно, дитя 1-го съезда РКП.
– Какие вы были тогда – это одно. Хотя вас укоряют и за былое прекраснодушие, и за то, что жалели себя, не пошли так далеко, как пошли диссиденты. Но главное, что не разделяют сегодняшних позиций, видя в них пусть изменившийся, но все же идеализм, пусть иную, но все же ангажированность.
– Особенность моего поколения – в его инфантильности. Мы созрели гораздо позже, чем следующие. К себе я могу быть достаточно беспощаден, к другим из моего поколения – нет, других я бы защитил. Со всех сторон один и тот же грех: я достиг определенного уровня, а все, кто «ниже», – дрянь. Тут есть нечто чудовищное.
– Конечно, это грех высокомерия. Более того, грех горделивой правоты небитых перед битыми. Хотя встречается и гордыня более битых перед менее битыми. Выслушать, принять, учесть и идти дальше – другого пути, пожалуй, и нет. Продолжим в этой связи о Солженицыне и Сахарове.
– Как происходит? Сначала люди влияют на нас чистотой своих помыслов, нравственностью, мужеством, красотой поступков, так? А уж потом мы видим их взгляды. Посмотри: Афганистан – тот и другой против, тоталитаризм – оба против, и так далее. Потом начинаются различия. Сейчас на них особенно упирают. А я хочу сказать, что история приготовила нам удивительный сюрприз. Россия по природе своей – это не Европа и не Азия. Россия – Евразия. Она двуглава, у нее два корня, два крыла. Это не точка зрения, это так и есть. И появление западничества и славянофильства – это у глупых адептов превратилось во вражду, тогда как в духовном плане – чудесное слово есть: контрапункт. Контрапункт – это такое столкновение мотивов, лейтмотивов, в результате которого рождается взрыв понимания, взаимопроникновения, взаимообогащения. Чудо возрождения, а не взаимоуничтожения. Западники и славянофилы тогдашние, герцено-аксаковско-киреевско-грановские, они были святые люди. Это была юность, чудесная, идеалистическая, кстати. И вдруг такая неслыханная концентрация славянофильства снова – конечно, в Александре Исаевиче, и западничества – конечно, в Андрее Дмитриевиче. Такого еще не бывало. Тут и сила интеллекта – один другому не уступает, и сила духа – один другому не уступает, и сила и красота поступка – великое соревнование, от которого все выигрывают. Да это два мощных крыла, только благодаря которым можно взлететь! Вот он, согласительный контрапункт!
– Замечательно. Правда.
– А я был счастлив, когда эту же мысль нашел в последнем письме Давида Самойлова к Лидии Корнеевне Чуковской. Тут нужно тихо-тихо думать. Нужно думать, удивляться и радоваться, потому что это нам знак, нам дар. Воплощенный, не «намёчный» (слово Достоевского). Почему мы этого не замечаем? Очень близко стоим. Говорят, где-то на востоке не могли изобрести колеса. Изобрели на западе. Демократия изобретена на западе, но это колесо, оно для всех, без потери своего национального духа. Если уж Япония овладела общемировыми ценностями, то о чем говорить?
– Тебе действительно потрясающе повезло, что ты общался с одним и с другим. Впрочем, это другая категория. Не везение – действия, поступки, мысли сводят людей. Андрей Дмитриевич был твоим доверенным лицом на выборах в народные депутаты, а ты – его доверенным лицом…
– Одно это было для меня наградой, о которой я не смел и мечтать и которую мне отслуживать и отслуживать… А впервые вместе мы были на представлении книжки «Иного не дано» в издательстве «Прогресс», сначала выступил он, потом я. Он сказал, что книжка, может, и хорошая, но она уже безнадежно устарела. Я подхватил, сказал, что «ждановская жидкость» – прошлое, надо браться за «лигачевский бетон», имея в виду историю с уничтожением останков политзаключенных ГУЛАГа в Колпашево, под Томском, я тогда только узнал об этом. Потом мы поехали к Андрею Дмитриевичу на дачу – Афанасьев Юрий, Лен Карпинский, Леонид Баткин, поехали основывать «Московскую трибуну». Тогда началась совместная работа.
– О нем можно сказать, что это полное воплощение солженицынского «жить не по лжи». Как ты думаешь, он был такой природно или выделался в такого человека?
– Думаю, что природно, семейно, но это и расширялось. Гениальный физик, он вдруг открыл глаза на весь мир. Это старая российская история: «Я взглянул окрест себя – душа моя страданиями человечества уязвлена стала… Я человеку нашел утешителя в нем самом».
– Что ты думал в «последние минуты» о важном сегодня?
– О том, что сегодня никуда не денешься от пересмотра самых главных вопросов. А самые главные вопросы – это марксизм-ленинизм-коммунизм и Октябрьская революция. Я не претендую сейчас на абсолютные ответы. Вопросов, вопросов не надо бояться. Ответы придут. Глупейшее занятие – пересматривать историю: а как было бы, ежели бы. Но наше отношение к событиям истории – другое дело. Дано: Октябрьская революция. Дано: к 17-му году Россия входила если не в первую пятерку, то в первую десятку по всем основным критериям. Было десятилетие серебряного века. Уж я точно не шовинист, но у нас была гениальная интеллигенция, нигде такой больше не было…
– Которая готовилась радостно принять революцию…
– Готовилась. Итак, Россия в мировом квалификационном листе. Что мы имеем через 70 лет? Россию на 50-х местах по всем показателям: медицине, культуре, экономике. То есть невероятную отсталость. Причем эта отсталость – не победа, а отсталость, вдумайся! – куплена уничтожением такой культуры – представь, если бы ни Кёльнского, ни Миланского, ни собора Парижской богоматери!.. Ценой неслыханных страданий! Ценой убитых нами же. Не меньше 40 миллионов. Сами. Своих. Мы убили гениальную свою интеллигенцию, убили гениальное свое крестьянство – это был такой отборный слой, тысячу лет рожали и родили. Уничтожен был коренник: коренной крестьянин, коренной рабочий, коренной интеллигент, человек к человечку, мастера! И я никуда не могу деться от вопроса: стоит ли? Пошли бы вы на Октябрьскую революцию, зная результат? При такой-то цели. Такой результат. За такую отсталость. Такая плата. Возьмите Достоевского, Толстого, Пушкина, Чехова, поместите их в 17–53 годы – они благословили бы нас? Мало этого, что было бы с ними? Сейчас на меня закричат: не предадим идеалы Октября! А речь идет не о предательстве, не об измене, а о том, что нет никакого научного социализма. Просто к новой форме утопического социализма прибавили слово «научный». Какой же это научный, если исходили из того, что деньги не нужны и да здравствует немедленная отмена денег и обобществление – даже ненаучные слепцы Французской революции до этого не додумались, а шли от жизни! Гениев у нас много, но для меня есть один человек – как воплощение нормы, воплощение добра, осуществленной духовности – Короленко. У Достоевского о Гарибальди: да, хороший человек, но мыслию не орел. А Короленко – и мыслию орел. Поразительно, как он все видел, и назад, и вперед. И вдруг, когда Горький за него заступается, Ленин отвечает: вы пишете, что это мозг нации, соль соли – а он – говно нации! Ну, вот тут уж я никому и ни за что не уступлю, хоть ста Лениным и Марксам, вместе взятым. Или – обратиться к нации и сказать: мы перевели непонятную латинскую фразу об экспроприации экспроприаторов как «грабь награбленное». Настолько не понимать, как это будет «переводиться», как будет снижена даже самая высокая идея: у Достоевского есть выражение «потащили идею на улицу»… Я добросовестно подсчитал, по наименованиям, что знали из мировой культуры Маркс и Энгельс, а что Ленин. Раз в 60 меньше. А если чего-то не знаешь, это для тебя не существует, тебе этого не жалко, это не входит в твой духовный статус, не живое для тебя.
– На этом основан весь «железный занавес» – где-то там… Юра, ты открыл вообще закон невежества. Если люди чего-то не знают – это враждебно и потому может или должно быть уничтожено.
– Неизвестное враждебно – да. Выгоняют 200 человек, цвет русской мысли, носителей мировой культуры, – «корабль философов». Я лелеял надежду, что Ленин не знал, воспользовались его болезнью. Так нет же, выясняется, знал. Ничего себе «научный социализм»! Вообрази, Эйнштейн приходит к власти и говорит: кто там меня не понимает? Бор? Сослать его к такой-то матери. Я не понимаю Бора? Бора и сослать!.. Была проблема: мировая культура с точки зрения марксизма-ленинизма. А стала: марксизм-ленинизм с точки зрения мировой культуры. Вообще что такое марксизм-ленинизм? Нельзя же физику назвать ньютонизмом или эйнштенизмом. А физика – чепуха по сравнению с наукой об обществе. Назвать все по имени одного-двух-трех людей, по-человечески неизбежно ограниченных? Перескочить через формацию – научный социализм? Произошла чудовищная вещь – прости меня, пожалуйста: овладеть девочкой в десять лет, заставить ее рожать через пять месяцев – при чем тут наука? Не по науке известно, что женщина рожает на 272-й день, а девочка не может!..
Говорить с Юрием Федоровичем Карякиным можно бесконечно. Талант жить, и страдать, и мыслить, он заразителен. Безумно жаль прерываться. Но надо и честь знать: я навещаю Карякина в больнице. Слава Богу, есть книга «Достоевский и канун XXI века», есть план новой книги, где чистый Достоевский, план книги публицистики, собственных дневников. И заветное – «Дневник русского читателя» (мальчика, прожившего до старости с Достоевским в душе) – одно из открытий, которые даруются ищущим. Сначала работайте по 16 часов в сутки – и вам воздастся.
Мы не прощаемся.
1991. ПУТЧ
1991 год. Начался заметный спад той волны общественного подъема, что нарастала в ходе перестройки. Казалось, перестройка выдыхается. Горбачев впервые почувствовал себя в изоляции в своей (коммунистической) партии, где еще оставался генсеком, и в стране, где был избран (правда, не на всеобщих выборах, а съездом народных депутатов) первым президентом СССР. Экономическая ситуация в стране резко ухудшилась, опустели полки магазинов даже в Москве. За хлебом выстраивались очереди. Москвичи получили специальные карточки, по которым могли купить – если повезет! – что-нибудь из продуктов питания. Даже залежалые промтовары сметались в магазинах, чудовищными темпами нарастала инфляция.
А в политической борьбе шли на таран друг против друга Горбачев и Ельцин. «Для меня отношения между Горбачевым и Ельциным – это маленькая модель либо гражданского мира, либо гражданской войны. – Так комментировал я, помнится, результаты февральского Пленума Российской компартии газете «Куранты». – Все то лучшее, что начинал Горбачев, без Ельцина невозможно. То, что начинает Ельцин, без Горбачева не пройдет. Причины этой «войны» куда глубже, чем личные отношения. Но пока два лидера машут руками, народ может протянуть ноги».
ФОТО 045
В КПСС, которая все еще сохраняла определенный контроль правительством и номенклатурой, верх одержали реваншисты, и их агрессия была направлена не только и даже не столько против Ельцина, сколько против Горбачева и его «прорабов перестройки». В январе эти группировки сделали первую попытку переворота, но не в центре (это им было не под силу), а в Литве и Латвии. 13 января в Вильнюсе и 20 января в Риге воинские формирования, подчиненные центральным министерствам, но действовавшие от имени «Комитетов национального спасения», попытались захватить государственные учреждения: телебашню и Дом печати в Вильнюсе и Министерство внутренних дел в Риге. Обе акции провалились, но пролилась кровь, и главное – никто не взял на себя ответственность за насильственные акции. Горбачев с большим опозданием невразумительно оправдывался: не был ни о чем осведомлен. Ельцин же действовал быстро и точно: он немедленно вылетел в Таллин и подписал документы с законными органами власти Прибалтийских республик, выразив солидарность с теми сотнями тысяч граждан, что вышли на столичные улицы под лозунгами – «Свободу Литве!». Тем самым показал себя сторонником суверенитета республик и лидером общесоюзного масштаба.
Центральное телевидение совершило в эти дни настоящий подлог. Вопреки совместному заявлению депутатских групп «Союз» и МДГ четвертой сессии Верховного Совета СССР, потребовавших показать на экране «авторский обзор» Невзорова и ленту литовского представительства в Москве, вышла передача, содержавшая лишь короткий и маловразумительный эпизод из съемок Невзорова. А через несколько суток, в последний день работы четвертой сессии Верховного Совета СССР, Горбачев выступил с предложением временно приостановить действие Закона о печати, самого демократического из принятых за годы его правления.
Как обычно, формулировал он свое предложение довольно витиевато: «…Я бы поддержал предложение, чтобы Верховный Совет взял контроль над всем телевидением и радио, над всеми газетами, чтобы там присутствовали все точки зрения».
Вот тут и произошла моя стычка с Горбачевым, которая помогла в конечном счете это предложение президента спустить на тормозах, оставив в силе Закон о печати.
ФОТО 046
Из стенограммы обсуждения, записанного на диктофон в пресс-центре парламента и опубликованной в газете «Московские новости» (27 января 1991 г.) .
КАРЯКИН: Президент сказал, что нужно приостановить Закон о печати хотя бы на месяц. Напомню, что один раз мы уже его приостанавливали в 18–м году и после этого не могли восстановить 70 с лишним лет.
ГОРБАЧЕВ: Позвольте отреагировать моему старому, нет, не оппоненту, как раз другу: мы ведем с товарищем Карякиным все время диалог и обмениваемся мнениями. Тут говорят, препятствует Закон о печати? Я только хочу высказать мнение, чтобы телевидение отражало весь плюрализм мнений и оценок…Чтобы во всех газетах присутствовали точки зрения общества, а не позиции политических групп, тем более узких групп.
КАРЯКИН (в отключенный микрофон): Таким образом, я понимаю вас так, что вы снимаете свое предложение о приостановке Закона о печати?
ГОРБАЧЕВ: Не ставлю! Вот вы и Мурашев сказали, как быть с Законом о печати. Я это не ставлю.
Итогом этой дискуссии в последний день работы Верховного Совета стала довольно расплывчатая резолюция о том, что Президиуму Верховного Совета вместе с Комитетом Верховного Совета СССР по вопросам гласности поручено разработать меры по обеспечению объективного освещения событий, происходящих в стране, в печати, по радио и телевидению. Закон о печати не был приостановлен. Тогда же я откликнулся в газете «Московские новости» такой репликой:
СНОВА ЗАГНАТЬ ДЖИННА В БУТЫЛКУ?
К дебатам о свободе печати
Меня поразила (чтоб не сказать – потрясла) та легкость, та непринужденность, с какой президент внес свое предложение:
«Можно сейчас принять решение приостановить Закон о печати».
И меня вовсе не радует, не вдохновляет та легкость, непринужденность, с какой президент тут же снял свое предложение.
В этом эпизоде обнажилась хрупкость, незащищенность нашей демократии вообще, и гласности в особенности.
Счастлив был бы ошибиться, но не могу не думать: а поставь президент свое предложение на голосование в Верховном Совете, оно могло бы и пройти, и даже с восторгом. Догадываюсь о реплике президента, если бы наш диалог был продолжен: «Опять драматизируете!..»
Ничуть не драматизирую. «Слово не воробей: вылетит – не поймаешь». Президент, однако, сумел поймать. Но я-то не могу обманывать других и не хочу обманываться сам. Что стоит за всей этой легкостью и непринужденностью? Внес предложение – и какое! – и тут же снял его…
Что это – оговорка или проговорка? Беззаботность или расчет, так сказать, «пробный шар»?
Гласность, закон о печати давно уже мешает… Чему мешает? Кому мешает? Вот в чем вопрос.
Да, сначала «слева» и «справа»,
со сто
То же самое казалось и со многим другим: вот опубликуют «Реквием» Ахматовой, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Окаянные дни» Бунина – и…
Опубликовали. Все опубликовали, даже то, о чем и не грезилось в самых смелых мечтах и снах. Пошли пьесы, фильмы и т. д. и т. п. И что же? Очень хочется сказать: а в сущности, ничего не изменилось.
Но так ли это? Не так.
В 1964-м, после снятия Хрущева, выяснилось: были выпущены из нескольких бутылок несколько джиннов, но их сумели опять загнать в бутылки, а бутылки снова закупорить. Но солженицынский джинн вылетел навсегда. Вслед ему вырвался сахаровский нравственный гений. Пправда была посеяна.
За минувшие шесть лет оказались
откупорены сотни, тысячи бутылок, и
Как? Цензурой? Кравченками? Возвращением лигачевых с пенсии? Глушением «голосов»? Взятием всех ксероксов на учет?
Слишком много правды вырвалось на свет, в слишком многих людях проснулась совесть, пробудился стыд трусости и воскресло мужество, слишком – слава Богу – честно определили свою жизнь Шаталины и слишком честно начинают ее Явлинские, слишком много девушек и женщин вспомнили, наконец и вдруг, что любви достойны только достойные, слишком много юношей почувствовали красоту истины и поступка, и, наконец, слишком много детей никогда больше не захотят стать Павликами Морозовыми. Как их всех усмирить? Сколько крови для этого понадобится?
Гласность не излишество при сверхсытой жизни, не монополия «интеллигенции». Гласность – это просто нормальный духовный воздух нормальных людей. Она еще больше нужна и рабочим, и крестьянам, военным, пенсионерам, инвалидам, детям. Она еще больше нужна не тем, кто является профессионалом слова, а тем, кто им не является. Гласность еще больше нужна социально немым, социально униженным и оскорбленным. Она элементарное, «элементное», первоначальное условие нормальной жизни.
В марте 1991 года я снова оказался в больнице, так что оттуда лишь наблюдал баталии вокруг союзного и российского референдумов. Первый, как стало ясно позднее, был довольно бесполезным. Хотя большинство и высказалось за сохранение Союза, центробежные силы в республиках и автономиях уже было не удержать. Местная элита, в основном коммунистическая и чиновничья, почувствовала вкус к власти. Всем захотелось своих президентских самолетов, ковровых дорожек и… независимости от Центра. А российский референдум, вроде бы пристегнутый к первому, дал главный результат: стало возможным избрание в июне президента России на всеобщих выборах и, стало быть, легитимизация власти Ельцина и укрепление новых российский политических и государственных структур. Это позволило Ельцину пойти на некоторое сближение с Горбачевым, правда этого не заметили как лидеры, так и большинство сторонников двух формировавшихся в стране и вступавших уже в открытую конфронтацию лагерей.
Первые – тогда было принято называть их консервативным большинством – выступали за «планово-рыночную» систему, за доминирующую роль государства в экономике, за сохранение союзных структур и определяющую роль компартии. А «левые» (либералы, демократы, среди них наша Межрегионалка) – за быстрый переход к рынку, за суверенитет республик. И у консерваторов, и у нас, демократов, все сильнее звучали радикальные голоса. Казалось, прямого столкновения не избежать, и оба лагеря рассчитывали на чистую победу, а не на компромисс.
Горбачев же надеялся сохранить себя в центре. При этом он, конечно, сдерживал движение вперед, за что получал оплеухи на митингах от демократов. Но именно он препятствовал и вполне возможному тогда откату назад. Однако его «центр» не опирался на сколько-нибудь мощные силы. Это было лишь центристское лавирование между двумя конфронтирующими сторонами. Но в государственных структурах Союза и в самой президентской администрации, действительно, сложился силовой центр, и его актеры и кукловоды готовились к тому, чтобы вывести самого президента из игры, если он и дальше будет искать компромисса с Ельциным и не подчинится их курсу. Все более дерзкие нападки на президента слева («Горбачева в отставку!» – помню, как мы в своей компании спорили об этом с Юрой Афанасьевым, занимавшим крайне радикальные позиции), хотели того демократы или нет, делали президента заложником правых. И это проявилось в том, что от него уходили лучшие люди: из его окружения – Эдуард Шеварднадзе, Станислав Шаталин, Николай Петраков. Других – Александра Яковлева и Вадима Бакатина – он выдворил лично, да вскоре распустил и Президентский совет и провел серию чудовищных кадровых назначений.
На пост вице-президента он утвердил не Григория Явлинского, как предлагали ему демократы, а старого гэбэшника и алкаша Янаева, видимо плохо рассчитав, что это будет послушная пешка. На пост премьер-министра – не Анатолия Собчака и даже не Аркадия Вольского, а еще одного алкаша и циника – Павлова. Своему старому приятелю А. Лукьянову, этому номенклатурному сфинксу, отдал кресло председателя союзного парламента. Непонятно, почему он так безмерно доверял ему, хотя временами казалось, что сам он был перед ним как кролик перед удавом. Наконец, выгнал из МВД «либерала» В. Бакатина и не нашел ничего лучше, как заменить его ограниченным служакой Пуго. Вместо Шеварднадзе, с которым ему явно трудно было работать из-за самостоятельности и амбициозности последнего, поставил серую лошадку – бесцветного и покорного Бессмертных. Но зато не тронул на посту КГБ старую бабу Ягу – Крючкова, чьи мозги уже полностью маразмировали, но остались подлость и жестокость. Не тронул и солдафона Язова на посту министра обороны. Так и не успев создать свою сколько-нибудь эффективную президентскую администрацию, все организационные дела отдал Болдину (из Общего отдела ЦК), человеку скользкому и лживому. Своими руками сколотил команду заговорщиков, недалеких, но рьяных, готовых совершить реванш.
Я был в ужасе. Помню, что в те летние дни, когда Горбачев уже совершил все эти кадровые курбеты, я поехал в больницу (ЦКБ) к Александру Николаевичу Яковлеву: «Умоляю, свяжите меня с Михал Сергеичем. Пусть я мало что могу, но я ему скажу – он роет под собой могилу. Надо его остановить. И надо ему прямо обращаться к народу, отбросив все эти аппаратные игры. Помните, когда Хрущева уже сняли, он сетовал: надо было прямо с народом говорить». Мудрый Яковлев горько усмехался: «Милый вы мой идеалист! Ему ли не говорили, да все бесполезно!»
ФОТО 029
Как раз в этот момент прибежала медсестра (мы с Александром Николаевичем прогуливались перед главным корпусом): «Звонит Горбачев!» Я рванулся, но «дядя Саша», как потом многие мои друзья называли этого прекрасного старика, остановил меня: «Сам скажу, может быть в последний раз».
Больше говорить уже не пришлось. Горбачев уехал в отпуск в Форос.
ПУТЧ
В ночь на 19 августа, вернее уже под утро, часов в 5, Юрая закончил свой доклад «Сны и сновидения», предназначенный для международного симпозиума психологов и психиатров, который должен был именно в этот день открыться в Голицыно, и завалился спать. В 7 утра раздался звонок. Трубку взяла Ира. На другом конце провода взволнованная Пилар Бонет, корреспондент испанской газеты «Паис»:
– Что у вас? Юру не арестовали?
– О чем ты? Он спит.
– У вас начался переворот. Срочно буди его и включай радио.
Ира, естественно, разбудила меня и, щадя, начала:
– Юра, ты только не волнуйся,
– С мамой что-нибудь? – я тогда очень боялся ее угасания и смерти.
– Да нет, с ней все в порядке. Но у нас в стране переворот. Пилар звонила, спрашивала, не арестовали ли тебя. Сейчас включу радио.
Ну, слава Богу, с мамой все хорошо… Можно поспать. И тут вдруг до меня дошло! Переворот! Значит, то, чего опасались, началось!
Вскочил. Что делать? Мысль о возможном аресте не была такой уж дикой. Ведь в «списке врагов народа», подготовленном красными и коричневыми экстремистами, среди других «прорабов перестройки» числился и я. Но испугался в тот момент другого. Придут с обыском и арестуют все мои дневники – те самые маленькие записные книжицы, что веду всю жизнь. Позвонил Ириному племяннику Виктору Зорину (у него была машина) и просил срочно приехать и забрать их. Позвонил Шаталину. Он был озабочен тем, что у подъезда стоят, видимо пасут его, две черные машины. Тут я попробовал позвонить в наш парламентский гараж. Как ни странно, он работал, и обещали прислать машину.
Ну и ну, какой же это переворот, если телефоны работают, машины из гаража «прорабам перестройки» высылают. Да и внешне в городе все спокойно.
Решил ехать в Белый дом. Когда выходил из подъезда, меня приветствовал наш дворник, молодой парень, очень политизированный: «Юрий Федорович, привет! Фашизм не пройдет!» Это меня обрадовало и как-то еще больше успокоило. К самому зданию Белого дома пришлось пробираться уже через собиравшихся с самого утра людей. И тут помогли. Узнали и по-доброму напутствовали.
В российском парламенте уже собирались и руководители, и депутаты. Настроение было тревожным, но отнюдь не капитулянтским. Ждали Ельцина, который накануне поздно ночью вернулся из Алма-Аты и теперь уже ехал со своей дачи в Архангельском.
Так, значит, Ельцина не тронули. Хасбулатов и Силаев были уже на своих местах. Я обосновался в кабинете Лукина, который с утра писал проект постановления Президиума Верховного Совета РСФСР. В нем объявленное с утра по радио чрезвычайное положение называлось реакционным, антиконституционным переворотом и звучал призыв к сопротивлению.
Приехал Ельцин. Наскоро поздоровавшись с собравшимися, закрылся у себя в кабинете и готовил там обращение к народу. Скоро он, взгромоздившись на танк, выступил перед теми, кто собрался перед Белым домом (а люди продолжали идти с Манежной площади, по Калининскому проспекту), с обращением «К гражданам России». Это его выступление, несомненно, подняло моральный дух и тех, кто собрался в Белом доме, и тех, кто составил «живое кольцо» защитников российского президента и российского парламента. Появились первые листовки с обращением Ельцина, и вскоре ксероксы Белого дома заработали на полную катушку, и москвичи начали получать иную, не официальную информацию.
Молодые ребята с радиостанции «Эхо Москвы» наладили рубку в здании Белого дома, и мы, собравшиеся там, начали выступать, разъясняя защитникам Белого дома, что происходит в столице и в стране, и призывая всех поддержать законно избранных президента России Ельцина и президента СССР Горбачева против авантюристов, поднявших путч.
ФОТО (Алесь Адамович перед микрофоном) и № 40 А
В середине дня позвонил Егор Яковлев. Газету его «Московские новости» закрыли, и он, человек удивительно энергичный, деятельный, организатор по своей природе, начал собирать у себя всех журналистов, которые готовы были выступить против хунты (так сразу окрестили в народе Государственный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП). Просил приехать. В его кабинете Лен Карпинский и Саша Гельман готовили обращение к журналистам. Рождалась «Общая газета». Собралось немало иностранных корреспондентов. Кабинет Егора Яковлева стал вторым штабом демократов в дни путча.
ФОТО 109 («Совет в Филях»)
Я тоже включился в работу. А вскоре увидел среди телевизионщиков знакомую команду с российского телевидения, они последовательно записали интервью у Яковлева, Карпинского, Гельмана. Для кого? Ясно было, что государственное телевидение закрыто для нас, но можно было отснятый материал передать иностранным телевизионным компаниям, которые продолжали относительно свободно работать.
Тут мне пришла в голову идея сделать репортаж с Алесем Адамовичем. Он так вспоминает об этом в своей книге «Vixi» (Я прожил).
«Только я успел убедиться, что телефон работает, как тут же позвонили.
– Слушай, обдумай выступление, мы сейчас приедем к тебе.
Таким решительным и деловым бывает мой друг-философ, когда затевает какую-нибудь авантюру.
– Какое выступление и кто это вы?
– Российское телевидение. Через час будем у тебя. Мы сейчас были у…
Сейчас он чего-то нарасскажет на целую кассету для Владимира Александровича (Крючкова).
– Потом сообщишь, – я положил трубку.
А телевизор уже рожи кажет, строит. Это же надо подобрать столько. И таких. До этого телеэкран все классику танцевал, а тут вон кого выставил: один краше другого. У нашей хунты пресс-конференция».
Когда мы с телевизионщиками приехали, пресс-конференция гэкачепистов была в разгаре. Приглушили звук и на фоне всех этих рож и дрожащих рук записали с Алесем свою пресс-конференцию. Начал я:
«Страха нет. Трусости нет. Есть, конечно, страшная досада, прежде всего, на самих себя. Но есть и маленькая радость. Наконец-то коммунизм, отбросив всякие маски, облобызался с фашизмом. Слились. Долго отрицали свое родство. А то, что в обращении «К народу» нет ни слова о коммунизме, никого не обманет. Все мы их, авторов, знаем. Все они наперечет.
Абсолютная вопиющая беззаконность. Наглое распутство, беспрецедентный цинизм на виду у всего мира, у всего нашего народа. Авантюра от начала до конца.
Думаю, что накануне, когда они только все это готовили, все дрожали. Они и сейчас продолжают дрожать. Ваша история, господа янаевы, язовы, пуго, баклановы уже написана. Сами-то вы смотритесь в маленькое зеркальце – «Свет мой, зеркальце, скажи…» А в зеркале настоящей истории вы выглядите авантюристами, фашистами, совокупившимися с коммунистами. Вот уж поистине социально-политический гомосексуализм в чистой форме.
Посмотрите на них, отцов ГКЧП. Ни одному человеку нельзя верить. Чем больше вы будете показываться, тем скорее слетите. Вы лучше спрячьте свои рожи.
И еще имеют наглость апеллировать к высшей нравственности. Это вы-то, только вчера проголосовавшие на своем пленуме за новую программу Горбачева. Поздравляю и Жириновского, только что выступившего по радио «Свобода» с поздравлением Янаеву. Спасибо, облобызал вас! Это ему еще припомнится.
Нас вы не запугаете. Не потому, что нам с Адамовичем уже за 60. А потому, что наше поколение уже многое повидало.
Не знаю, что делает сейчас Гаврила Попов (наверное, уже арестован), но именно он сказал про вас: даже если решитесь на захват власти, удержать ее не сможете.
Вам для храбрости и для удержания надо пустить кровь. И, наверное, вы ее пустите. Тогда осмелеете. Но удержаться у власти все равно не сможете. Вы взяли на себя задачу непосильную. Что, вы сумеете накормить народ «из стратегических запасов»? Да вы давно все разворовали! Нахапали, сколько могли, наприватизировали да дач себе понастроили.
Кто виноват?
Много я спорил и ссорился с Горбачевым. Дай Бог ему здоровья. Каково ему сейчас! Сценаристы нынешнего переворота многое списали с октябрьского 1964 года. Не хватало только запустить кого-нибудь в космос и поздравить с выполнением программы. А ведь Горбачеву многие говорили, о том, как все будет обставлено. Такие «соратники» предадут кого угодно. Скоро они начнут предавать друг друга.
Так кто виноват? Конечно, прежде всего, сам Горбачев. Покажи ему сегодняшний сценарий…
Кто еще виноват? Да, конечно, сами демократы. Раскололись…
Что нас может спасти? Вопрос был решен без народа. Рабочих вы не обманете. Ельцин прав, призывая к всеобщей политической забастовке. А еще нужно и гражданское неповиновение. Систематически не работать на диктатуру. Как жаль, что с нами нет Сахарова!
Свой переворот вы поспешили совершить до подписания Союзного договора. Кое-как сумели склеить этот договор, который мог бы стать шагом вперед, пусть не километровым, но хотя бы метровым… Но вы с абсолютным бесстыдством пошли на переворот, чтобы сорвать его подписание.
Итак, вы перевернули свою предпоследнюю страничку истории. Но следующую страницу будет переворачивать народ.
Где вы, Александр Исаевич Солженицын? От вас очень ждем нового слова!
Я верю, свято верю, что вас ждет неминуемый провал. Слишком омерзительна вся ваша стилистика. Я никакой не политик. Я – достоевсковед, уж не обессудьте, прибегну к нему. «Красота мир спасет, а некрасивость убьет». Ваша политическая стилистика самоубийственна. Но прежде чем кончить самоубийством, вы можете пролить много крови.
Помню 1964 год. Свидетельствую, страх был. Теперь страха нет. Нет его ни у отдельных людей, нет его у народа.
А вам, организаторам переворота, советую: прочитайте там на своем очередном пленуме «Бобок» Достоевского. Прочитайте хором. «Разврат последних упований…» Обнажимся и оголимся. Вы обнажились и оголились перед всем миром. Вам предстоит трусить всю оставшуюся жизнь, с чем вас и поздравляю.
(И обращаясь к телевизионному экрану)
Вот он «консилиум» по здоровью Горбачева. Если вы не трусы, немедленно дайте слово самому Горбачеву.
Горбачев, конечно, не Христос, и грехов у него немало. И может быть, главный грех – неверие в силы самого народа и в силы новой демократии. Надо было обращаться, да и теперь не поздно, прямо к народу. Да, грехов у него немало. Но чтобы на одного человека нашлось столько Иуд – такого еще не бывало».
Потом говорил Алесь:
«Сегодня, 19 августа 91 года – звездный час Горбачева, как ни дико это звучит. Я целый день ходил по Москве, был у Кремля, на Манежной площади, у Белого дома. Всюду люди спрашивали: где Горбачев, что с ним, жив ли?
Эх, Михаил Сергеевич, как же это вы так оплошали, отдали себя в руки вот этих? Посмотрите на них – это им вы доверились? Вице-президент, ваш протеже, этот профсоюзный курощуп с дрожащими руками, на весь мир сообщает, что вы арестованы по причине болезни…А разве вас не предупреждали «так называемые» демократы? Ну да за битого двух небитых дают.
Мы помним, что вы помогли людям отойти от атомной пропасти. А теперь «кнопка» у них, у этих, с воровски дрожащими руками. Одно это должно подсказать всему миру, как воспринимать их заговор, переворот.
Знайте же, Михаил Сергеевич, как ни трудно вам сейчас, все же это ваш звездный час! Народ к вам возвращается, возвращайтесь и вы к нему. И будем теперь умнее: и вы, и мы тоже».
На перезапись кассеты ушло несколько часов, и в Белый дом мы попали уже за полночь. Ночь провел в предбаннике у Лукина. А уже утром стало известно, что Ельцин направил гэкачепистам через Анатолия Лукьянова (он оставался единственным законным представителем верховной власти) ультиматум: в течение 24 часов представить Горбачева, провести его медицинское освидетельствование с участием экспертов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), отменить цензуру на газеты, телевидение, объявить о роспуске ГКЧП и отменить все его распоряжения.
Генерал Кобец, возглавлявший военные силы российского правительства в августовские дни, утром 20-го сказал Бурбулису: «Все, раз этой ночью они не решились, уже не решатся никогда». Как оказалось впоследствии, заявление было несколько преждевременным, штурм Белого дома гэкачеписты планировали осуществить в ночь с 20-го на 21-е. Потому и был объявлен в ночь на 21-е комендантский час с 23 до 5 часов утра. Но уже многие и в самом Белом доме, и среди его защитников почувствовали: время работает на нас.
Танки на улицах Москвы выглядели беспомощными. Жители окружали их, пытались разговорить молодых ребят, прятавшихся в них. Страха не было, было скорее презрение к тем, кто погнал молодых ребят в Москву. и какая-то уверенность, что авантюрная затея гэкачепистов провалится. Садовое кольцо заполнялось людьми, которые шли к Белому дому: «Ельцин! Ельцин! Долой КПСС! Хунту на нары». Вокруг российского парламента – людское море. Идет митинг. Среди выступающих выделяется ростом и белой шевелюрой Ельцин. Его прикрывают раскладушками-щитами охранники. Невольно посматриваешь, нет ли снайперов на соседних домах. Впрочем, мне, как и многим другим, пришлось большую часть дня провести внутри Белого дома, много выступая по радио из радиорубки в цокольном этаже, откуда шла трансляция на весь дом и на улицу для собравшихся там людей.
В середине дня решил заскочить домой за лекарствами. Когда утром 19-го помчался, напрочь забыл про лекарства и свое недавно оперированное сердце. Прихожу – сюрприз. У Иры на кухне сидит какой-то кубинец из посольства и явно пытается выудить информацию: а каково соотношение сил в армии, на чьей стороне руководство сухопутных войск. Я уже знал, что Фидель поддержал гэкачепистов (кажется, даже послал им телеграмму со словами поддержки). и потому разговор мой с этим лазутчиком из вражеского стана был коротким: «А ну-ка, выматывай отсюда и передай своему Фиделю, что мы, демократы, Ельцин, новая Россия, победим!» Тут он начал что-то бормотать и протягивает мне бутылку виски. «Да нет, мы за вас, вот это пусть будет нашим вкладом в вашу победу». Я расхохотался: «Давай свое виски, завтра выпьем за победу, а сегодня – улепетывай!» Он действительно быстро ретировался. Я же, прихватив бутылку и снова забыв свои лекарства, отправился в Белый дом.
К ночи Володя Лукин буквально вытолкал меня из своего кабинета – поезжай домой, передохни и прими, наконец, свои снадобья. Ира твоя меня уже замучила телефонными звонками. И только очутившись дома, узнал о комендантском часе.
В эту злополучную ночь остался дома и – до сих пор не могу себе этого простить! Тогда и долго потом чувствовал себя предателем: в самую трудную ночь, когда ждали штурма Белого дома, не был рядом со своими товарищами. То же самое произошло и с Алесем. «Даша и Маша» и тут оказались в сходной ситуации. Адамович в своей книги «Vixi» , как мне кажется, прекрасно выразил и свои и мои чувства:
«Окажись я в эту ночь в Белом доме, пережил бы, как и все там, непосредственное ожидание атаки, смертельной опасности… Говорят, ничего страшнее смерти нет. Да, страх смерти из самых сильных. Это так, но и не совсем так. Во всяком случае, не он меня удержал и удерживал в эту ночь дома…Возможно, потому, что в смерть верится не очень, всегда она кажется невозможной, хотя умом и понимаешь, что это не так. А вот другое воспринимаешь куда более реально. Даже обыкновенное чувство стыда перед ложным положением, за собственную униженность бывает страшнее…
Смерть витала в эту ночь над Москвой, заливаемой потоками дождя. Ночь эта оказалась последней для трех человек. А могла стать последней для тысяч и тысяч…
У омоновцев и у той же кэгэбистской «Альфы», которую готовили для броска внутрь Белого дома, в ходу словцо: «шинковка». Вскакивают в помещение, врываются в толпу, сваливаются на голову, как с неба (а то и в прямом смысле – с неба, сверху), и пошли, пошли чесать из автоматов, подрывая гранатами – шинкуя мясо на капусту… автоматы Калашникова, дырявящие сталь, спецвыучка, элитарные амбиции высокопрофессиональных убийц: отшинкуют – поправлять не надо!..
Штурм не состоялся…Что помешало и в какой степени: оппозиция авиаторов родному министерству обороны, брожение в Тульской и Таманской танковых дивизиях, несогласованность действий начальников КГБ, МВД, МО СССР, чья-то нерешительность или профессиональная неготовность, разлад в армии и даже в частях КГБ, пьянство Янаева и Павлова, очень смахивающее на «медвежью болезнь», неожиданное упрямство Президента СССР, спутавшее всем карты… чутье мне подсказывает: атака на Белый дом не состоялась потому, что кровавая схватка у моста на Садовом кольце окончательно лишила заговорщиков воли к победе… заговорщики легко вычислили, что будет происходить у самого российского парламента, где людей в сто раз больше и где психологический эпицентр противостояния».
Утром 21 августа в Белом доме открылась внеочередная (чрезвычайная) сессия Верховного Совета России. Мы с Алесем уселись в амфитеатре, вместе с прессой. Выяснилось, что кворума хватает с избытком и всякие опасения насчет того, одобрят ли собравшиеся депутаты действия президента и его команды, сразу отпали. По накалу эмоций эту сессию можно было сравнить лишь с нашим Первым съездом народных депутатов. Тень трагедии, происшедшей минувшей ночью, будто нависла над всеми. Но одновременно уже ощущалась всеми собравшимися близость победы.
Первым выступил Ельцин, усталый, явно не спавший все эти дни и ночи, но сосредоточенный, собранный, уверенный в себе. Дал оценку положения в республиках и за границей. Сказал, что и Буш, и Коль заверили его в поддержке законных президентов (Горбачева и его) и в непризнании правительства путчистов. Я знал об этих переговорах (поскольку почти все время сидел у Лукина, который был тогда председателем Комитета по международным делам), а Алесь по-детски не мог не нарадоваться: «Ну и путчисты! Хорош этот маразматик Крючков! Держит в руках всю связь и позволяет Ельцину говорить с западными лидерами!» Тут я ему: ну ты ведь и сам слышал, как Лукину из Лондона позвонила рано утром Галина Старовойтова, спрашивала о погибших и сказала, что они с Маргарет Тэтчер делают все, чтобы европейские политики и газеты заняли непримиримую позицию по отношению к путчистам. Может быть, КГБ допускает разговоры в надежде все проконтролировать, но мне кажется, что они просто в бессилии и трусости не знают, что делать.
Тут объявили, что войска по приказу Язова уходят из Москвы (мы это увидали из окон). Вскоре поступило новое долгожданное известие: путчисты признали свое поражение и отправились в Форос, видимо на прощальный поклон Горбачеву. Ельцин (после того, как к нему подошел Руцкой) сказал об этом со своей неподражаемой улыбкой: разбегаются зайцы, помчались во Внуково, но уже отдан приказ блокировать их в аэропорту. И тут же еще новость: Крючков, который чуть ранее будто бы предполагал приехать на сессию и выступить, теперь согласен лететь в Форос вместе с российским президентом.
– Я готов, если парламент даст согласие, – говорит Ельцин.
– Не-е-ет! – выдохнул зал.
Ишь, чего захотели!.. Заполучить сразу обоих президентов!
Тут же начали формировать российскую делегацию во главе с Руцким и Силаевым в Форос. Очень хотелось туда попасть! Но как, ведь мы с Алесем даже не были российскими депутатами.
Но нам все-таки выпала другая миссия, вернее, я ее спровоцировал, – ехать к Лукьянову в Кремль и требовать от Президиума Верховного совета СССР осуждения гэкачепистов. Для нас с Алесем было ясно, что этот загадочный сфинкс был главной фигурой заговора, хотя, может быть, и запасной.
Ехали по Москве, уже свободной от танков и машин с солдатами. Прошли в Кремль. Все по-чиновничьи чинно, спокойно, ухоженно. Нас даже не хотели пускать. Я-то еще был в костюме, а Алесь в джинсах и мятой фланелевой клетчатой рубахе с полиэтиленовым пакетом, из которого выглядывала черная буханка и термос. На недоуменно-осуждающий взгляд дежурной при входе тут же выстрелил:
– Думал, опять придется в партизаны идти, вот и приоделся.
Заседание Президиума (его вели Лаптев и Рафик Нишанов) шло спокойно и размеренно. Первым взял слово Алесь:
– Как будете оправдываться, что бездействовали все эти дни? У вас еще один шанс – немедленно осудить путчистов.
Я тут же добавил:
– И Лаптев должен сегодня в программе «Время» выступить с заявлением от имени Президиума. Если не сделаете этого, а какой-нибудь майор или генерал ночью опять прольет кровь, она ляжет на вас.
Было очевидно, что никому из этих чиновников не хотелось окончательно сжигать мосты, ведь сколько раз партия и «органы», казалось, были в агонии, а потом возрождались. К тому же (как мы позднее узнали) перед каждым из них лежала повестка дня, приготовленная заранее Лукьяновым. В ней предлагалось узаконить переворот, ведь писалась она до случившегося провала.
В общем, мы своего добились и поспешили в Белый дом, который за эти дни стал нашим домом. Чрезвычайная сессия продолжалась. Хасбулатов дал мне слово, и я доложил о результатах нашего с Адамовичем «похода к Лукьянову». А Алесь в своем выступлении предложил объявить национальный траур по погибшим ночью троим ребятам.
Объявили перерыв, и я вдруг вспомнил, что еще 19 августа должен был выступать на международном семинаре психологов по снам и сновидениям в Голицыно. Теперь вроде образовалось свободное время, да к тому же меня разыскала Таня, жена Карэна Мелик-Симоняна, организатора семинара, и буквально затолкала в машину. Поехали в Голицыно. Там меня сразу проводили на трибуну, семинар уже заканчивал свою работу. В голове была мешанина. Но я понимал, что от меня прежде всего ждут вестей из Москвы, из эпицентра событий. Собрался и начал что-то говорить. Ира записала выступление на видео и потому могу привести его здесь в сжатом виде. Сам уже плохо помню, сказались три дня и три ночи без сна.
Я счастлив, и впервые за эти три дня мне вдруг стало немного страшно – выступать перед вами. Когда я говорил своим товарищам в нашем Белом доме, в российском парламенте, о том, куда еду – на конференцию по снам, – на меня смотрели как на сумасшедшего.
Достоевский так определял сны: чрезвычайно странная вещь. В них, вопреки законам рассудка, человек перескакивает через пространство и время и сосредоточивается в точках, о которых грезит сердце.
Вот эти три августовских дня для нас стали каким-то сном, каким-то художественным произведением, гениальным экспромтом. Мы тоже перелетали через пространство и время и сосредоточились в точках, о которых многие люди моей страны грезили веками. Думаю, эти три дня стали очень важными в истории России. Бог, наконец-то, нам улыбнулся.
…У Достоевского, как, быть может, ни у кого из классиков мировой литературы, в романах много снов. Перелистал книги перед докладом – насчитал около 50. Вслед за Шекспиром, за Библией Достоевский воздвиг сны в ранг ничем не заменимого способа познания человека и человечества. Без снов для Достоевского человек непознаваем.
Мне кажется, я очень боюсь тут ошибиться как дилетант, у самого Фрейда и у многих психологов есть один промах: они относились к снам Достоевского как к иллюстрации собственных идей и открытий, а не как к первоисточнику.
Если воспользоваться термином Гегеля о категориях-понятиях и представить, что с категориями Фрейда мы забрасываем сеть в мировой океан сновидений, конечно, выловим много. Но все равно останется тайна, тайна художественности. К пониманию этого пришел и сам Фрейд, который вначале пользовался для своего анализа лишь 3–5 категориями. Полагаю, что беда Фрейда состояла в том, что он слишком долго был атеистом и поздно пришел к осознанию духовности человека, духовной реальности. Достоевский же возвел сны в ранг великого духовного события. Его сны, как и сны в классической литературе вообще – не иллюстрация к психоанализу, а первоисточник, к которому мы еще по-настоящему и не припали.
По Достоевскому, для нормального человека преступление непереносимо. Его, преступление, надо переименовать. Тогда оно даже вдохновляет, особенно если это великий самообман. Но вот снов самообманных не бывает. Все, что ум налжет во время бодрствования, вдруг обнажится во сне. Во сне просыпается совесть, которая спит наяву.
Есть и другая грань: в снах проявляется художественность, которая есть в каждом человеке и которая может спать наяву.
Итак, нет снов самообманных и нет снов бездарных. Любой человек талантлив, и талантом его является совесть. А совесть – это со-весть, т.е. весть от одного к другому, пуповина, соединяющая человека с другими, с человеческим родом.
Для Достоевского совесть не ограничена временем и пространством. Он язвительно спрашивает нас: ну, вот убили человека на другой планете. Так это далеко! Это там! А какое вам нужно расстояние – метр, километр, чтобы пробудилась ваша совесть. То же самое происходит и со временем. Искусство Достоевского (в том числе и через сны) позволяет ликвидировать пространство. А преступление Достоевский определяет как нарушение закона единства человека и человечества, как разрыв пуповины, связывающей его с миром.
Ну, а если вернуться туда, откуда я приехал, в наш Белый дом, где уже празднуют победу, скажу: там в эти три августовских дня можно было физически ощутить, что такое со-весть, не знающая пространственных границ и временных. Один пример. Сижу в радиорубке, говорю для людей, окруживших живым кольцом Белый дом. Оборачиваюсь – рядом Слава Ростропович. Только что с самолета, приехал без визы, сослался на участие в Конгрессе соотечественников. Вот она живая совесть: услышал по радио утром 19-го о том, что в России, в Москве – беда и, бросив все и даже побоявшись предупредить любимую им Галину и детей, рванулся к нам. Конечно, России нужна помощь, прежде всего финансовая, о чем так много говорят. Но больше всего нам нужна помощь духовная, проявление всемирной совести и «всемирной отзывчивости» (словечко Достоевского). И я благодарю вас всех здесь собравшихся за такую помощь нам.
Вечером вернулся в Москву и уже по телевизору видел возвращение Горбачева. Усталый, растерянный, в домашней куртке – вид непривычный и трогательный. За ним спускается совсем слабая Раиса, ее поддерживают. Ириша, дочка, тоже измученная.
Но что дальше? Короткие приветствия собравшимся, машина – и куда? Неужели сразу домой, неужели не сообразит, что надо ехать к Белому дому, что надо поблагодарить тех, кто три дня и три ночи под дождем защищали там не только новую демократию, Ельцина, но и его, Горбачева! Нет, не сообразил. Досада взяла и на моего друга Анатолия Черняева, что был все время «осады» с ним в Форосе.
И досада эта росла весь следующий день – День победы. Неужели Горбачев ничему не научился? Народ к нему вернулся, а он к народу? Нет, предпочел к народу не выходить, но вечером устроил пресс-конференцию для своих и иностранных журналистов.
Пошли на эту конференцию с Юрой Рыжовым и Сашей Гельманом. Вошли в зал. Забит. Но свободен первый ряд. Мы спокойно садимся туда, но приходят «мальчики в сером» и вежливо, но настойчиво нас сгоняют, правда недалеко, усадили в третий ряд.
Вышел Михаил Сергеевич, отдохнувший, как и прежде, в хорошей форме, в сопровождении своего пресс-секретаря
И вот тут я сорвался. Не дожидаясь слова для вопроса, выпалил ему: «Как вы могли окружить себя такими людьми, путчистами? У них же на лбу было написано, что все они подлецы и подонки. Вы что, ничего не видели!»
Горбачев все понял, слегка смутился, что-то пробормотал о порядке ведения пресс-конференции. Но поскольку говорил я без микрофона, все как-то смазалось и дальше пресс-конференция пошла как по накатанной дорожке.
Так закончились эти три августовских дня. Народ вместе с Ельциным праздновал победу, но и тот и другой уже готовы были расслабиться.
Вскоре российский президент уехал в Сочи отдыхать. Это был непростительный шаг для политика. Ему советовали (из близкого окружения) не распускать парламент, объявить бессрочную сессию, принять и законодательно закрепить наиболее важные экономические и политические решения, быстро подготовить конституцию России, решить вопрос о земле, собственности, внешнем долге, тем более что сложилась уникальная возможность списать долги Союза.
Но Ельцин уехал, без него все замерло. Инерция, заданная победоносным Августом, быстро иссякла. Победители скоро раскололись, побежденные так и не были судимы.
Горбачев же, которого спасли российские демократы, но тут же жестоко унизили на заседании Верховного Совета России, все еще сохранял иллюзии насчет восстановления Союза и свого поста президента, до конца не понимая, что вернулся он совсем в другую Москву и в другую страну.
26–31 августа прошла внеочередная сессия союзного Верховного Совета, а в начале сентября – пятый и последний Съезд народных депутатов СССР. Обсуждались уроки августовского путча.
ФОТО 050
Горбачев признал свою вину в том, что назначил на высокие посты «людей, ставших на путь предательства», Но и в его выступлении, и в речах министров правительства доминировал оправдательный тон. Министры все валили на Павлова. Валентин Фалин доказывал непричастность к перевороту руководства КПСС. Покаянных выступлений не было.
Я, готовясь к выступлению, решил сделать одно предложение депутатам – самораспуститься. Вот стенограмма этого моего последнего выступления как народного депутата:
Уважаемый съезд, уважаемый президиум и, главное, уважаемый наш народ!
Сначала об одной, подчеркиваю, об одной из причин путча и его срыва. Речь идет о взаимоотношениях двух президентов – Горбачева и Ельцина. Почти четыре года перед нами была картина тарана. Когда они шли на параллельных курсах или взаимодействовали? – На программе «пятьсот дней», да в Ново-Огареве.
Михаил Сергеевич дал слово, кажется в 87-м году: «Я тебя в политику не пущу!» Дал слово и почти его сдержал, к несчастью. Борис Николаевич дал слово и повторил его: «Если Горбачеву будет плохо, к нему и к окруженному, и к раненому приду». Дал слово и тоже сдержал, к счастью.
Без защиты «Белого дома», без поддержки защитников его со стороны Санкт-Петербурга путч победил бы. Но отдадим себе отчет и в том, что, не выстой Горбачев с Черняевым там, в Форосе, тоже ведь неизвестно, как бы все закончилось.
Самыми счастливыми днями для меня, как, наверное, и для большинства из нас, были дни 21–22 августа. Но 22 августа я был почти убит пресс-конференцией Горбачева. Простите меня, Михаил Сергеевич (обращается к президенту). Вы все помните, что там было. Корабль разбит, а нам показывают старый компас, который и привел нас к этому поражению. Но через день все наоборот. Что это? Тактика? Вынужденный ход в политической борьбе? Или действительное прозрение, прозрение, вызванное потрясением? Если так – одно дело, если нет – совершенно другое. У меня сегодня нет ответа на этот вопрос. Я верю, нет, я очень, очень хочу верить в то, что в Горбачеве родится новый Горбачев.
Второе. Вдумаемся, почему в июльском (1991 года) «Слове к народу», в августовском Манифесте хунты нет слова «коммунизм». А сколько среди авторов коммунистов?
Два года назад этот зал, простите меня, большинство вас, со страшным энтузиазмом поднялись при лозунге: «Держава, Родина, Коммунизм!». И была овация, да какая еще! И только ничтожная кучка «отщепенцев», как их тогда называли, во главе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, «усидела», не поднялась. Было, помню, невесело, даже жутковато.
Вдумаемся, что за странный,
страшный союз. Вы, Гидаспов, верите в
Бога? Нет, вы верите в коммунизм! Невзоров,
интересно, верит в коммунизм? Нет.
Ярейшего антикоммуниста у нас нет. Что
ж вы лобзаетесь? «Саша приедет, расскажет
правду!» Что это, тактика? Цинизм. Вы не
верите ни в коммунизм, ни в Бога! Точно
так же, как все эти
(Когда стоял на трибуне, конечно, не разглядел своих «героев», но потом в записи по телевизору увидал их. Гидаспов как-то заискивающе смеялся в ответ на мое к нему обращение. Но что меня потрясло – в тот момент, когда я спросил, обращаясь в зал: «Вы верите в Бога или в коммунизм?», камера выхватила бегающие глаза отца Питирима.)
Последнее. Знаю, не будь этих трех героических дней защиты Белого дома, этот съезд проголосовал бы за хунту. И поэтому перед народом сейчас мы должны оставить свои мандаты. Это будет единственно честный выход. Вам доверия, нам доверия, мне доверия нет. Нет его и к тем, кто был в меньшинстве, потому что мы не справились с вами здесь, с большинством».
В конце октября 1991-го мне пришлось выступить и в российском парламенте против удивительно быстро поднявших голову коммунистов во главе с новым первым секретарем В. Купцовым, сменившим Ивана Полозкова:
…Глас народа, который вы, Купцов, до сих пор не слышите, глас народа, стоявшего вокруг Белого дома, требовал: «Долой КПСС!» Сразу раскусили вас безо всякой информации. Впрочем, мое выступление не столько обвинительное, сколько самообвинительное. Я долго верил в коммунизм. Я думал, что партия – это такая пирамида, в которой, кто выше, тот честнее, умнее и совестливее. Я шкурой, физиономией своей пропахал и убедился: все наоборот… Не должно быть никаких иллюзий насчет цинизма партийной верхушки. Чем они сейчас занимаются? Отмывают и прячут деньги. У кого учились? У большевиков, ведь Лениным было предусмотрено: если октябрьский заговор не пройдет, миллиарды спрятать. Скоро будут опубликованы документы, как пряталось это народное добро.
Вы, коммунисты, как и организаторы ГКЧП в своем манифесте, лобызаетесь с нашими нацистами. А Проханов месяца два назад заявил, может быть, прихвастнул, что это он писал программу РКП…
И вы не запугаете нас криками о том, что мы-де устраиваем охоту на ведьм. Да, Жанну д'Арк сжигали как ведьму. Так это вы, что ли, Жанна д'Арк? Или, быть может, Егор Лигачев?
И не забудем о миллионах бесстыдно обманутых, эксплуатируемых рядовых коммунистов. Для нас, для них – это трагедия. Я сам цеплялся за коммунистическое мировоззрение так, что ногти обломал. Потому что отравлен был с детства. До меня не доходило, что такое ленинский демократический централизм, который мне в башку вдалбливали. Рабство, и больше ничего.
…Я боялся, не мог свести концы с концами, когда узнал, что любимым героем Ленина (это тщательно скрывается, но есть достоверное свидетельство, я скоро опубликую) был… Нечаев! А есть ли кто циничнее его в истории российского революционного движения? Вот, говорит Ленин, кто герой! Вот кого издавать нужно. Вот кто придумал, что все царское семейство, от царя до ребенка, нужно извести…
Откройте стенограммы 14-го съезда: вот воплощение нашей (в прошлом) – вашей (в настоящем), товарищ Купцов, партии. Этот съезд, в восторге от самого себя, провозгласил, что каждый член партии обязан быть агентом ЧК. И говорится, что это не донос, а героический поступок.
За последние четыре года всплыло столько фактов, что раствор уже перенасыщен, сознание их отталкивает. А я предрекаю (в данном случае это не сложно): мы потрясены одной миллионной долей этих фактов. Откроется такое, что мир содрогнется и проклянет вас.
Так закончилось мое депутатство. Но в политике еще немного задержался, хотя политиком оказался никудышным.
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ
В конце 1991 года Михаил Сергеевич, с которым у меня сложились дружеские отношения, несмотря на все мои выпады против него, предложил мне идти работать к нему в Фонд Горбачева.
ФОТО 031
Потолковал с Черняевым, его помощником и моим старым другом. Походил по коридорам, увидел знакомые лица и понял – это не для меня. Я вообще-то никогда не служил, забыл уже, что такое каждый день ходить на работу, был развращен вольной жизнью свободного литератора и, конечно, предложение не принял.
Но почти в это же время получил другое приглашение – войти в так называемый Президентский совет Ельцина, на общественных началах, без всяких «должностей» и материальных поощрений. Решил – это по мне, ни от кого зависеть не буду и, может быть, смогу что-то там сделать, по крайней мере высказать все, что думаю.
Собственно, начало этому Президентскому совету положил Высший консультативно-координационный совет при Председателе Верховного Совета РСФСР, созданный в декабре 1990 года. Председатель – Б.Н. Ельцин, заместители – Г.Э. Бурбулис, Ю.А. Рыжов, члены – Г.А. Арбатов, Ю.Ю. Болдырев, О.Т. Богомолов, Д.А. Волкогонов, П.Г. Бунич, Д.А. Гранин, Т.И. Заславская, М.А. Захаров, Ю.Ф. Карякин, Г.А. Попов, А.А. Собчак, Г.В. Старовойтова, В.А. Тихонов, С.Н. Федоров, Н.П. Шмелев, А.В. Яблоков.
В апреле 1992 г. он был преобразован в Консультативный совет при Президенте Российской Федерации. Председателем остался Ельцин, заместителем – Бурбулис. А в октябре 1996 года Президент России утвердил Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Его уже собирал С.Н. Красавченко.
Поначалу мы собирались часто, не реже раза в месяц, и встречи проходили очень неформально, дружески. Как правило, на каждое заседание выносились самые животрепещущие вопросы, и все высказывались свободно, без желания «угодить». Борис Николаевич обычно всех выслушивал внимательно, иногда коротко отвечал, если речь шла о каких-то конкретных предложениях, но больше отмалчивался, правда, делал себе заметки.
Потом встречи стали все реже. Состав Совета сильно менялся. Стали выноситься на этот Совет официальные доклады членов правительства. Обсуждения становились все более формальными. Ясно было, что мнения членов Совета к реальной политике имеют мало отношения.
Конечно, сама возможность встречи с президентом была для меня очень важной. Порой удавалось сделать пусть небольшие, но неотложные дела. Но также ясно становилось, что сам Совет наш все больше превращался в своего рода ширму, а реальная политика формировалась совсем в других кабинетах и шла своим ходом. Сколько-нибудь влиять на принятие решений мы практически не могли. Оставалось только иногда возопить, что, в частности, произошло со мной, когда я узнал, насколько келейно принималось решение о первой чеченской кампании.
В конце декабря 1994-го, сразу после ввода войск в Чечню, я сгоряча написал письмо Ельцину. Но не отправил, а лишь частично выговорился на одном из заседаний Совета. А сам текст письма остался в моем дневнике.
«Борис Николаевич!
1) Есть и не могут не быть планы Вашего политического убийства (уверен, что у идиотов – и физического), но Вы в обман своих политических убийц, по-моему, все более решительно склоняетесь к плану – САМОУБИЙСТВА. А если кто-то там поумнее, поподлее, похитрее, то они – очень квалифицированно – подталкивают Вас к осуществлению этого плана. Неужели Вы не понимаете, что момент сейчас – САМЫЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ, чрезвычайнее и августа 1991-го, и октября 1993-го!
2) Осмеливаюсь уверить Вас, что, во-первых, народ российский кормят ложью, а Вас, во-вторых, кормят, мягко говоря, дезинформацией.
Убедился (и на Вашем, к сожалению, примере), что порвать железную паутину насилия, оказывается, легче, чем тонкую, липкую паутину лжи.
3) Буквально потрясен, узнав, что ни один из несиловых министров, ни один из министров экономических – слышал это прямо от Ясина и Лившица – не были даже уведомлены о чеченской акции, не то чтобы с ними были просчитаны ее экономические варианты, последствия.
А они таковы (по Ясину): еще две недели таких военных «побед» – и весь бюджет, с таким трудом принятый, летит под откос. Потребуется, как минимум, десять триллионов рублей. Из какого кармана они будут вынуты? Прибавьте, что аппетит ВПК возрастает не по дням, а по часам. Не говорю уже о социальных и политических последствиях. Вот то, что я называю САМОУБИЙСТВОМ. Вынужден – не хочу – сказать, что нет большего врага Вам, чем Вы сами.
Вы наградили Президентский совет самыми высокими эпитетами: «мозговой центр», «интеллектуальная совесть» и пр., и пр. Во-первых, это не так. А во-вторых, Вы с этим «мозгом» и «совестью» советуетесь все реже и реже. Стало быть, Совет превратился в ширму.
Напомню, как уходили от М. С. Горбачева не самые глупые люди России (С. Шаталин, Н. Петраков, Д. С. Лихачев и др.), из его советников. Не корысти же ради они это сделали. Вы принуждаете к тому же советников своих. Ваше отношение к Горбачеву слишком известно – что ж Вы ему подражаете?
Извините, но абсолютно непростителен Ваш выпад в адрес С. А. Ковалева, М. М. Молоствова, Эллы Памфиловой. Вот уж кто никогда не врет. Задумались ли Вы над тем, где был бы сегодня А. Д. Сахаров? Вы изменили самому себе. Вы не похожи на самого себя. Где тот Ельцин, который…
Никаких иллюзий насчет Дудаева я не питаю, но при чем тут мирные старики, женщины, дети? Кто Вам это подсказал? Ну не С. А. Ковалев же, а небось тот, кто трусил и при Брежневе, и при Горбачеве, а тут вдруг советником заделался.
Ничего не поделаешь. Должен признаться в своей наивности, в своей преступной наивности.
Хотя: не один раз, не два и не три, а чаще говорил Вам насчет информации. Вы и опровергали, и поддерживали. Предлагал: пускай (себя не называл) люди более осведомленные, чем я, из Президентского совета, пускай проведут с Вами день или два, с утра до утра, и сравнят то, как Вы получаете информацию, и то, как ее получают другие президенты. Вы, почти растроганно, сказали: замечательная мысль. Где ее реализация?
Речь не только и не столько о Вашем САМОУБИЙСТВЕ, к которому Вас подталкивают, – речь о самоубийстве и демократии, и России – вот же на самом деле к чему Вас подталкивают.
Заменить С. Ковалева «после отлупки», после отлучения, на лжеца В. Ковалева, на другой день назначив последнего министром! Ну, кто об этом догадался бы, кроме последнего хитрейшего и подлейшего провокатора? Я ничего не понимаю – но даже М. С. Горбачев таких номеров не выкидывал.
…Прерву себя: я сам человек последнего шанса и иногда знаю, как с ним спастись; не могу поверить, чтобы Вы его, этот свой шанс, упустили. В конце концов, бог с Вами (говорю очень сердечно и очень честно). Не могу понять, завидую, как Вы все это выдерживаете, – собой распоряжайтесь как Вам угодно, а страной, народом – не имеете права.
Нет у меня никаких аргументов политических, логических, юридических, но поглядел я не раз в сверлящие и одновременно бегающие глаза Вашего Илюшина, на тупо-хитро-лживого Лобова… так ведь они ничем не лучше горбачевских Крючковых, Павловых, Янаевых. Скорее, дешевле Вас продадут, если уже не продали.
Никуда от себя не могу деться. Сам не раз выкарабкивался из абсолютно безнадежных ситуаций, но оказалось – только двумя вещами: диким порывом, надрывом и долгой работой.
Прошу прощения, но я первым, задолго до октябрьских событий, при полном обалдении всего Президентского совета сказал, что Хасбулатов – подлец. Еще сказал Вам, Борис Николаевич, что Ваше назначение Руцкого командующим сельским хозяйством – глупость, хотя комбедами он бы смог командовать.
Говорил, и неоднократно – Вы сами должны сказать: есть, не может не быть альтернативы Ельцину. Давайте вместе искать.
Окунитесь Вы снова в народ».
Не могу не отдать должное президенту. Выслушивал даже самые резкие замечания в свой адрес со стороны «советников» спокойно (конечно, на это отваживались немногие). Никогда не повышал голоса, никогда никому не «тыкал». Мне однажды сказал как-то удивительно просто и проникновенно: «Сам себя не пойму. Почему люблю вас, Юрий Федорович, и позволяю вам рубить правду-матку?» Я в ответ: «Борис Николаевич, да просто потому, что чувствуете, что мне от вас ничего не надо, и я от вас не завишу. А если от кого-то и завишу, так только от Достоевского». Понял, улыбнулся, дружески и очень тепло.
Однажды, правда, он на меня не в шутку рассердился, когда я несколько неуклюже и настырно защищал перед ним своего друга Владимира Лукина, занимавшего в 1992–1993 гг. пост посла России в США. В результате аппаратных игр и мидовских интриг Ельцину подготовили предложение об отзыве Лукина. Не помню, от кого до меня дошло, что указ уже подготовлен и Ельцин вот-вот должен его подписать.
На ближайшем заседании Совета я набросал Ельцину записку:
«Дорогой Борис Николаевич, я насчет Лукина. Знаю его 30 лет. Вместе работали в Праге, и недавно полтора месяца был у него в Вашингтоне. Видел своими глазами его в работе. Выше всяких похвал. Я ручаюсь за него головой. Этот не предаст никогда. Не верьте никаким поклепам не него. Юрий Карякин».
ФОТО № 36
Надеялся передать ему свою записку прямо в руки, как только он придет, ведь я всегда сидел по правую руку от него, так почему-то сложилось. А тут подхожу к «своему» месту и вижу на нем табличку – В.А. Тихонов. А табличка с моим именем стоит напротив. Я, естественно, сел напротив, а Володе Тихонову передал записку, чтобы он подсунул ее Ельцину.
Борис Николаевич вошел, когда все уселись, как всегда поздоровался со всеми за руку и вдруг обратился ко мне: «А вы, Юрий Федорович, почему не на своем месте?» Я тут сразу в бой: «Да так ваши аппаратчики решают, вот они и Владимира Петровича Лукина решили отозвать из США». Борис Николаевич даже не дал мне договорить: «Кто это все выдумывает? Ничего подобного». Ну, решил я, и слава богу.
Начали что-то обсуждать. И тут Володя Тихонов, то ли не услышав ельцинский ответ насчет Лукина, то ли не разобравшись, как верный друг передает президенту мою записку. Ельцин читает и уже несколько раздраженным тоном отвечает на нее: «Опять вы о Лукине. Я ж говорю, ничего подобного. Все перепутали. Речь шла о Б. Панкине, а тут навыдумывали».
На другой день, 15 сентября, была встреча Ельцина с писателями. Я ему, помимо всего прочего, – опять о Лукине, о том, что аппарат подготовил отзыв посла.
Он: Ну что вы, как бульдог, вцепились в меня! Я же вам сказал, что с Лукиным все в порядке.
Я: Ну вот, раз я бульдог, то еще раз скажу вам. У меня сведения, что вас неверно информируют, что приказ об отзыве Лукина уже подготовили.
Потом подошел к его помощнику Илюшину. Тот, как настоящий царедворец, всегда в курсе всех интриг, говорит мне: «На этот раз пронесло, но успокаиваться не стоит».
Владимира Петровича действительно отозвали, правда, несколько позже. Аппарат в конце концов победил.
ФОТО 025
Почти все мои выступления и реплики на Президентском совете были спонтанными, хотя, конечно, к некоторым темам я готовился. Уже по выходе из Совета все собирался посмотреть стенограммы наших встреч с президентом Ельциным, да так и не получилось. В дневнике же остались лишь некоторые записи. Одна из них (19 мая 1994 г.) мне особенно дорога: о Солженицыне. Я, конечно, не излагал все эти мысли на Президентском совете, но предложил организовать в Москве достойную встречу писателю.
История нам подарила знамение в лице двух людей: Андрея Дмитриевича Сахарова и Александра Исаевича Солженицына. Почему это знаменательно? Потому что в этих людях нашло наиболее точное, полное, благородное воплощение то, что названо (я, конечно, кавычу эти слова) «западничеством» и «славянофильством». Подчеркну, однако, я сам слышал это от Солженицына, что Александр Исаевич против обозначения себя как «славянофила», «хоть и с десятью кавычками».
История сыграла свою шутку: «западника» Сахарова отправляют на восток, в Нижний Новгород, «славянофила» Солженицына – на запад. К тому же один – великий ученый, другой – великий художник, один – атеист, другой – верующий.
Я попытался проследить их отношения (отчасти и неофициальные) в эволюции. Поражает не только благородство этих отношений, но и их «умягчение», вместо таранного самоубийственного столкновения, которое наблюдаем мы сегодня в нашей политической, идейной борьбе.
Эти люди воплотили в себе любимую мысль Достоевского: у русских две родины – и Россия, и Европа. Россия – двукорнева. Россия – двукрыла. Россия может взрасти, возродиться только из двух корней, может взлететь только на двух крыльях.
Маркс призывал превратить оружие критики в критику оружием. Мы сполна пожинаем плоды этого призыва. Сахаров и Солженицын сделали максимум того, что в силах человеческих, чтобы превратить критику оружием в оружие критики.
Отношения между А.Д. Сахаровым и А.И. Солженицыным, по-моему, точнее, лучше всего могут быть определены таким музыкальным термином, как контрапункт. Ведь контрапункт в музыке – это такое столкновение разных противоположных мелодий, «тем», которое не убивает, а проясняет, высвечивает эти мелодии, эти темы, а в итоге – совершенно новая гармония.
Вот эта постоянная тенденция улучшения их отношений, красота полемики, ее благородство – и является для нас, может быть, последним предупреждением, последним шансом на спасение.
Ожидать, что Солженицын, эта мощная ракета, набравшая поистине космическую скорость, изменит свое направление под влиянием каких-нибудь метеоритиков, пошлых и злобных, коммунистов или фашистов, – наивно. Никогда Солженицын не станет ни под какое знамя. И я думаю, никому не удастся сделать его своим знаменем.
Что будет? Будет, как это всегда с ним случается, ожидаемая неожиданность. Вот уже и первая: прилет не в Москву, а во Владивосток, а оттуда – месяц-другой – путешествие по всей России. А когда произойдут и другие неожиданности, мы снова удивимся и признаем, что только так он и должен был поступить. Но кое-что можно предсказать довольно точно.
Сейчас в России мало кого интересует литература, вещи высшего порядка. Идет пошлая полемика-торговля: с кем будет Солженицын, за кого он? Ну представьте себе Солженицына, голосующего за Зюганова или Жириновского. Это все равно что Гёте или Шиллер, голосующие за Шикльгрубера. Абсурд, конечно.
С чем возвращается Солженицын? Перечитаем его последнюю работу «Как нам обустроить Россию». Вспомним хотя бы такие его слова: «Я с тревогой вижу, что пробуждающееся русское национальное самосознание во многой доли своей никак не может освободиться от пространственно-державного мышления… Нет у нас сил на окраины, ни хозяйственных, ни духовных. Нет у нас сил на империю. Надо теперь жестко выбрать между империей, губящей нас самих, и духовным и телесным же спасением нашего народа. Надо перестать попугайски повторять: «Мы гордимся, что мы русские, гордимся своей необъятной родиной, гордимся, гордимся…» Понятно, кому это не понравится.
10 июля позапрошлого года я побывал у Солженицына в Вермонте и под его диктовку записал такие его слова: «Беда той стране, в которой слово ДЕМОКРАТИЯ стало ругательным. Но и погибла та страна, в которой ругательным стало слово ПАТРИОТИЗМ». Вот его кредо. Назначение литературы и, как я понимаю и его самого, он видит в единении этих принципов.
Вспомним и другое заявление Солженицына в связи с октябрьскими событиями 1993 г. – безусловную поддержку Ельцина, его мгновенную политическую реакцию против коммунофашизма. В ответ на него тут же была спущена стайка злобных шавок из газеты «День» («Завтра»).
Возможно, «идеальная» модель спасения России лежит где-то между теми двумя тенденциями, которые выкристаллизовались в нашей истории, в двух наших гениях – «западнике» Сахарове и «славянофиле» Солженицыне. Вся история взаимоотношений Сахарова и Солженицына, их полемики, иногда страстной и всегда благородной, показывает тенденцию на сближение. Я надеюсь, даже мечтаю, что сближение этих тенденций, порой расходящихся и как бы уходящих в бесконечность, определит будущее.
Думаю, возвращение для самого Солженицына будет нелегким. Вспомним, как Достоевский за границей стонал: «Читаю каждый день русские газеты. Без газет не могу, помираю». Солженицын – я сам это видел – читал каждый день десятки наших газет и журналов и был в курсе мельчайших дел российских. Но, наверное, прав был Достоевский, когда говорил: «Живой России не хватает».
Предстоит ему одолеть и другие трудности. Молодежь России его практически не знает. Это ведь люди нашего поколения (1930 года рождения, плюс-минус 20 лет) по ночам, тайком читали его романы и «Архипелаг ГУЛАГ», передавая друг другу отпечатанные на машинке страницы. Да и кто читал? Сколько? Не больше 100 тысяч человек во всем бывшем Советском Союзе как максимум.
А сейчас книги Солженицына можно увидеть повсюду – в магазинах, библиотеках, на книжных лотках метро. Бери – не хочу. Но молодежь толстых книг вообще не читает. И Солженицына знает в основном понаслышке. А надо говорить прежде всего с молодежью. Первым из русских писателей прошлого века обратился к молодежи Достоевский. Солженицын говорил мне: «Понимаю, знаю – нет ничего важнее, чем подростки, юнцы и школы. – И тут же, с тоской глядя на десятитомник своего последнего романа «Красное колесо»: – Ну кто это будет читать! Пожалуй, лет через тридцать…»
Очень мало людей сейчас читают и дочитывают до конца «Архипелаг ГУЛАГ», который должен стать для российского человека книгой – навсегда. Российскому человеку пускаться в жизнь без этой книги нельзя, невозможно, опасно. Собственно, есть две самые важные книги для российского интеллигента – «Бесы» Достоевского и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Первая – это предупреждение об аде, открывающемся перед нами. У входа в ад. «Архипелаг ГУЛАГ» – на выходе из ада, это как бы опись того, что с нами сделали. А ужас состоит в том, что мы были предупреждены. Заметьте, ни одна страна не была предупреждена так о бесовщине. Никто так не был заранее предупрежден. И все-таки мы пошли в эту пропасть. Понадобился «Архипелаг ГУЛАГ», чтобы понять «Бесов». «Бесы» сами по себе оказались непостижимы. «Архипелаг» – это перевод «Бесов» на современный язык. В Евангелии сказано: «Притчами говорю с вами, потому что прямо не понимаете». Достоевский написал притчу, а Солженицын сказал: «Не поняли притчу, ну вот вам, пожалуйста, – «Архипелаг ГУЛАГ».
Достоевского и Солженицына роднит и другое. Заметьте, что тот и другой начинали очень «лево». Один был социалистом, а второй защищал идеи Ленина, уже будучи арестованным, в КГБ на Лубянке. Оба наших гения прошли этот трудный путь. Они одолели свои утопии не только и не столько социально-политически, сколько духовно и пришли к выводу, что всякое механическое переустройство общества, за которым, дескать, последует его неведомое всестороннее, в том числе и материальное, возрождение, – невозможно. Говорят: «Сначала накорми, а уж потом требуй духовности». Да без духовности и кормежки не будет. Вот эта убежденность в том, что бессмысленно утверждать, будто первично бытие или сознание, – общее для них. Первична совесть, первична религия – т.е. связь. Мы забыли, ведь религия – это religare – связь человека со всем человечеством, со всеми его поколениями, народами, и назад, и вперед, и сейчас, как бы мы ее ни назвали, эту связь, – Тайной, Богом, Провидением.
Есть и еще одно, что роднит Солженицына с Достоевским. Это понимание того, в чем состоит ответственность России. Говорят – провиденциальная Россия должна выполнить свою историческую «миссию»! Но ответственность России – это прежде всего ответственность за себя и свой народ. «Нет у нас сил на империю…» Солженицын продолжает идею русского историка прошлого века Ключевского, который говорил: «Нас губит пространство, потому что пространство пожирает у нас время. Чтобы осваивать пространство, постоянно расширяющееся, нужно бросать силы туда. А на внутреннее не хватает». Можно спорить с Солженицыным по частностям. Но в главном он прав.
В общем, ждешь его и с радостью, и с тревогой. И конечно, было бы хорошо, если бы ему было 50, а сейчас ему 75. Но когда я его видел; это был человек невероятной духовной мощи и физической закалки, дисциплины, человек, который излучает энергию. Мощная цель дает силы. Силы не тают, а прибавляются.
А вот другая запись из дневника, уже о встрече Солженицыных на вокзале:
21 июля 1994 года
Еду сначала на Старую площадь к Сергею Красавченко.
– Ну из ваших-то кто-то будет его встречать? – показал пальцем наверх. – Неужели Филатов не встретит? Я бы на месте Б. Н. поехал, а он вместо этого с Глазуновым лобызался вчера.
Взял машину. Едем со Старой площади на вокзал. Шофер молодой, Игорь, лет 26.
– Солженицына читали?
– Не-а…
Матерюсь (добро и невероятно глупо). Ну, нельзя русскому человеку без Солженицына в свет входить. Нельзя без этого компаса в этом мире ориентироваться. Настольной книгой каждого русского россиянина должен быть «Архипелаг ГУЛАГ». Конечно, после Евангелия и «Бесов».
Вокзал. Меня ждет Феликс Светов, надо еще провести Сашу Подрабиника.
Идем. Не пропускают. Обращаюсь, козыряя «документом» (член Президентского совета) ментам и омоновцам. Ноль внимания. К полковнику («главнокомандующему»): не видит, не слышит, не знает. Бардак полный.
Пришел поезд. Идут с чемоданами Толстая баба. Навстречу тоненькая струйка, а тут поток. Протискиваешься. Сую «документ» – плевали… Опять к тому полковнику. Не видит, не слышит… Вдруг какой-то долговязый симпатичный человек уже с той стороны (уже проникший туда): «Да вы что, это же Карякин». Те сдуру меня пропускают. Проник. Отдышался.
Оказался на платформе. Всегдашнее чувство неловкости и невозможности эту неловкость ликвидировать: тебя пропустили, а других нет. Растерянность. Ищешь глазами своих. Какая-то женщина, очень милая и интеллигентная, очень тихо: «Вы знаете, я знаю, что вы никогда не даете автографов, но мы, я и дочь моя, она на журналистике учится, она книжку вашу читала, очень просила… Вы знаете, я сегодня так счастлива, так счастлива». Я вдруг почувствовал: не истерика, а правда… И – написал: «Еще одной сестре, которую неожиданно нашел».
Уже скопилась огромная толпа. Невероятное количество корреспондентов. Давка. Вдруг вспомнил (тогда именно) похороны Сталина. Безумие глупого преклонения перед злодейством и глупого преклонения перед Добром и Совестью. Это главное ощущение сегодняшнего дня. Все одинаково глупо и безнадежно.
Минут за пять до приезда поезда… Из толпы кричат: «Карякин, Карякин». Наивно пошел за лаврами – и чуть не набили морду: «Предатель встречает предателя!» В сущности, бедная, несчастная, разжиревшая донельзя баба со значками Ленина и Сталина на груди мне это орет. Сзади нее мужик, обрюзгший с пузом: «Рабочий класс против!» Я (матерно): «Это ты-то рабочий класс?»
На перроне Боря Можаев, Марлен Коралов. Растерялись. Потерялись. То тебя бьют по морде хмыри ментовские, то угодливо говорят: «Проходите, проходите», поскольку кто-то из них видит, как почтительно поздоровался со мной Лужков.
Лужков. Все-таки мужик. Зыкнул: «На три метра не отойдете – три часа простоите и ничего не увидите». Отхлынули.
Дальше – невообразимая картинка. С левой стороны от АИС два богатыря, два сына сзади, справа Н.Д., слева Музыкантский, справа я. Душно донельзя. Тайно глотаю таблетки. АИС: «Вы-то зачем, Ю.Ф.? Нельзя вам тут, при вашем-то сердце». Я сморозил глупость: «Если б вы были на 12 лет младше…» В это мгновение я обо всем забыл. С.П. Залыгина чуть не затерли. Потерял его. Нельзя было бросать Наташу. Наконец, протиснулся (и неловко, и спасительно). Зальчик ВИПа. Скромное воспоминание о хамстве: много воды (всякой), одна бутылка водки (большая), несколько яичек. Ходят, предлагают шампанское.
Уединение. АИС с Залыгиным на диване… Лучше всех чувствуют себя два «православца» – Глеб Якунин и Феликс Светов. Потихоньку киряют.
Поздоровался с детьми.
– Вас как звать?
– Ермолай и Игнат.
– Наконец-то я вас разглядел. Богатыри.
Очень искренне и простодушно расплылись. И богатыри, и вроде в «пенсне». Странное сочетание мужскости и интеллигентности.
ФОТО № 15
…АИС все время поглядывает на часы: «Прямой репортаж будет или нет?» Кто начнет приветствие? Володя Лукин – Лужкову: «Может быть, вы, Юрий Михайлович?» Потом еще кто-то. Сергей Адамович Ковалев или я? Решили – оба.
Заметно, что Александр Исаевич устал очень. Еще бы. После такого. Глаза красные. Потерялся Можаев. Больше ждать нельзя. Идем. Дождь дикий. Всего два-три зонта.
Нелепость абсолютная: вся свора, которая раньше его преследовала, его же теперь охраняет. Абсолютно убежден, ни один из них – и даже из «интеллигентов» – не удосужился прочитать «ГУЛАГ»…
Как всегда, разбились по кучкам. Хотя и было-то там всего «наших» человек 15, вряд ли больше, и 15 «охранников».
Подбежал ко мне тот полковник: «Помогите, пожалуйста, узнать адрес. Куда везти?
– Хорошо, я сейчас спрошу сыновей.
– Спросите у мамы.
– Турчанинов, 17.
Разъезжаемся. Захватил Залыгина в свою машину, в Переделкино. Взимное объяснение в любви. Он, Залыгин, сегодня был велик.
Разговор с ним в машине почти такой же, как с Бахтиным в Саранске 29 лет назад.
Вот и Переделкино. Ира встретила хорошо и даже поднесла рюмочку.
Из дневника:
16 ноября 1998 года
Драма А.И. Солженицына в посткоммунистической России – двусторонняя: ни Россия не захотела понять своего гения, ни он ее. Сейчас продолжать эту тему не имею права.
Солженицын одержал преждевременную победу. И оказался не подготовленным к этой победе. Но только не я ему судья. И вообще нет ему судьи (а кто посмеет судить – осрамится).
Тут я прихожу к жутко печальному подтверждению правоты своей гипотезы (которую я ненавижу), а именно: количество учеников в мире (по аналогии с теорией Мальтуса) растет в геометрической прогрессии, а количество учителей – во все более отстающей арифметической. А потому ученики призваны пожирать своих учителей…
Вдумаемся: за два тысячелетия население Земли оставалось почти постоянным, до ХХ века. А сейчас только за десятилетие прибывает новый миллиард. Ну и попробуй прокорми его, не только и не столько едой, а пищей духовной.
А.И.С. взвалил на свою горбину тяжесть, после Христа, Толстого и Ницше, – немыслимую. Вынес все, что просто непостижимо для нормальных человеческих сил. Миссия, которую он замыслил, непостижима. И тут даже он столкнулся, сшибся – и нельзя было иначе – со старейшей и главнейшей проблемой, в тисках которой мы все и живем, – цель, средство, результат…
Мне ли его критиковать?
Ждал я от него и жду до сих пор еще одного подвига – исповеди. Но даже если она будет, мир не проснется от своего буйного разврата.
… Когда был у Александра Исаевича в Вермонте (1992 год), не осмелился спросить его об истории неосуществленной публикации глав из романа “В круге первом” в “Правде” (См. “Бодался теленок с дубом”).
Представлен я там – и вполне заслуженно – наивным дурачком, но шанс-то публикации нескольких глав романа был! Он сам отдал мне рукопись. И он же потом после ареста романа и погрома в Подмосковье приехал ко мне без звонка как конспиратор и потребовал рукопись. Я, помнится, тогда еще пошутил: «Вы как Ленин. Он в июле 17-го скрывался у какого-то финского социал-демократа в Гельсингфорсе. Так вот, ваша рукопись – в сейфе шеф-редактора «Правды». Чем не Гельсингфорс. Сейчас я вам ее привезу».
Да не в этом дело. Почему уже находясь там, недосягаемым (а мы, я – здесь, под надзором) взял и опубликовал эту историю. Меня потом таскали на Лубянку. Стал думать… Они там от свободы с ума сходят, о нас уже не думают. Когда я приехал к нему в Америку в 92-м, готовился к этому пункту разговора. Наверное, и он тоже. Обошли. А в глазах – осталось.
ФОТО № 16
12 декабря 1993 года страна избирала новый парламент – Государственную думу.
День выборов был назначен в знаменитом указе президента № 1400 в момент крайнего противостояния исполнительной и законодательной властей, президента, правительства и Верховного Совета, когда каждый шаг Ельцина и президентской администрации вызывал слепую ярость и обструкцию парламентского большинства, объединившегося вокруг Хасбулатова. Казалось, ни та ни другая сторона не способна была к компромиссу, предпочитая идти напролом, до полной односторонней победы.
Тем не менее, президент дал парламентской оппозиции шанс – новые выборы. Но, закусив удила, она уже мчалась во весь опор по пути все более жесткого противостояния. Отказ засевших в Белом доме «защитников» разоружиться, оголтелые призывы оппозиционных лидеров Хасбулатов и Руцкого к военным – встать на сторону «новой власти» (Руцкой провозгласил себя президентом, Хасбулатов объявил о формировании правительства), наконец, вооруженное нападение на телецентр, захват мэрии столицы вынудили президента применить силу. Обстрел Белого дома, многочисленные жертвы при подавлении мятежа реваншистов в столице сильно подорвали авторитет властей и произвели обескураживающее впечатление на все общество, особенно на интеллигенцию.
Едва успели опомниться от страшной трагедии 3–4 октября, как уже на пороге назначенная дата – выборы. Демократы, как те, что были из первой волны, из партии «Демократическая Россия», так и те, кто объединился вокруг президента (чиновники, новые предприниматели), создали на своем учредительном съезде 16–17 октября избирательный блок «Выбор России». Его возглавили Егор Гайдар, Сергей Ковалев и Элла Памфилова. За ними стояла когорта известных политиков, министров, деятелей культуры и пр. (Анатолий Чубайс, Андрей Козырев, Борис Федоров, Сергей Филатов, Геннадий Бурбулис, Михаил Полторанин, Борис Золотухин, Сергей Юшенков, Лев Пономарев, Аркадий Мурашев, Владимир Дашкевич, Дмитрий Волкогонов и др.).
Я оставался в стороне от этих избирательных действий. Но мои друзья Александр Яковлев и Святослав Федоров почти в последний момент включили меня (конечно, получив мое согласие) в списки другого демократического блока – «Российское движение демократических реформ». Его возглавили известные «прорабы перестройки», мэры двух столиц Гавриил Попов и Анатолий Собчак. Никаких амбиций у меня не было, скорее инерция прошлого вхождения в политику и радость вновь встретиться с друзьями. В этом партийном списке были Алексей Герман и Олег Басилашвили, Савва Кулиш и Кирилл Лавров, Кронид Любарский и Николай Шмелев… Жена моя Ира, узнав об этом списке, огорчилась: ну зачем тебе снова лезть в эту чертову политику, уже получил инфаркты, пора заняться своим делом. Я и сам, признаться, всерьез о работе в Думе не помышлял. Как не думал и о том, что наша партия может не пройти 5-процентного барьера.
Результаты выборов оказались ошеломляющими. Демократы получили намного меньше голосов, чем ожидали и чем обещали им многочисленные прогнозы. Правда, шли они на выборы очень разобщенными. За наше «Российское движение за демократические реформы», в спешке сколоченное, все-таки проголосовало больше 2 млн. избирателей (около 4 %), но голоса эти практически были выброшены на ветер или, как говорят спецы по выборам, сброшены в «котел перераспределения».
Блок «Выбор России», который, конечно же, был ближе всего президенту (Ельцин занял надпартийную позицию, как президент всех россиян) и в победе которого мало кто сомневался, получил всего 14 процентов голосов. Партия, позиционировавшая себя как партия власти, оказалась в парламенте в меньшинстве.
Демократов опередили коммунисты из КПРФ, которые вместе с близкими к ним «аграриями» получили на двоих – 19 процентов голосов. Используя социально-популистские и национал-патриотические, державнические лозунги, лидеры КПРФ сплотили вокруг себя достаточно широкий слой бывшей номенклатуры, ополчившейся в свое время и против Горбачева, и против Ельцина, но сумевшей быстренько «поступиться принципами» и приспособиться к новым обстоятельствам.
Но, пожалуй, самым омерзительным был взлет партии Жириновского (около четверти всех голосов) – Либерально-демократической на словах, на деле же – не либеральной, не демократической, да и вообще не партии, а весьма специфической организации клиентов вождя, «соколов Жириновского». Его безответственная демагогия и самая вульгарная политическая клоунада пришлась по душе быстро увеличивавшимся в российском обществе маргинальным слоям – и среди рабочих, и среди неудавшихся предпринимателей, и среди бюрократии, и даже среди той части интеллигенции, что стремительно опускалась на дно. Оглушительный успех Жириновского показал, насколько вероятна угроза фашизма в российском обществе и как легко можно мобилизовать в кризисный момент разрушительные, дьявольские силы в народе.
Политический шок, который испытали в ночь подсчета голосов российские демократы, был явлен всей стране благодаря телевидению. В расчете на убедительную победу проельциновских партий организаторы выборов и телевизионное начальство пригласили в ночь на 13 декабря в Кремль на торжественный банкет, посвященный «встрече нового политического года», всю политическую элиту страны. Я тоже оказался среди приглашенных. На всех столиках стояли карточки с именами гостей. Мне случилось сесть за отдаленный столик с авиационным генералом Шапошниковым. Очень симпатичный открытый человек, с неизменной улыбкой на лице. Поговорили об августовских событиях 1991 года, когда во многом благодаря отказу командования авиации поддержать гэкачепистов сорвался штурм Белого дома. Выпить было нечего. На столах стояло только шампанское. Я откровенно заскучал. Но тут начали поступать первые сведения об итогах выборов по партийным спискам с востока страны, где уже давно закрылись избирательные пункты и были произведены подсчеты голосов, и… сразу стало горячо.
Результаты голосования казались невероятными, а по мере того, как они подтверждались тем информационным валом, что катился с востока на запад, к столице, в воздухе запахло грозой. Везде впереди были коммунисты и жириновцы. Казалось, красно-коричневая тень нависает над страной.
Недалеко от меня сидел потный Зюганов. Его маленькие колючие глазки буравили экран монитора, на котором высвечивались результаты голосования. Он явно не ожидал такого успеха своей партии и близкого к ней избирательного объединения «аграрников» и еще не успел «сочинить физиономию» победителя. Зато другой политический счастливчик, Жириновский, уже своим дьявольским чутьем почуяв, что ему прет карта, гоголем бегал между столиков. Расцеловался с Зюгановым (это он-то, самый непримиримый «антикоммунист»!), победоносно взглянул на нас с Шапошниковым, пробегая мимо, так что я едва удержался от того, чтобы не вскочить и не дать ему в морду.
В этот момент погасли мониторы. Сергей Доренко, который вначале уверенно гарцевал как ведущий программы, растерянно заявил, что произошли «технические неполадки». Но всем было ясно, что прокремлевские силы и демократы, столь доверчиво и уже давно отдавшие Ельцину свои голоса, не требуя в ответ никаких гарантий, терпят поражение. И дальше показывать всей стране свой позор им не хотелось.
И тут меня подхватила какая-то яростная сила и выбросила к микрофону. Никто из организаторов даже не попытался воспрепятствовать, тем паче что все оказались в растерянности, а к микрофону просто шли те, кто не мог не высказаться.
Пока шел по залу, твердил себе: «Вспомни Мераба Мамардашвили, который незадолго до своей столь неожиданной и трагической смерти сказал: “Если мой народ поддержит Гамсахурдию, я буду против своего народа”». Но, взяв в руки микрофон и посмотрев в зал, где так и не появился президент, но уже появились зияющие пустоты – наиболее осторожные из политической элиты дали деру, – я сказал (пишу по памяти, никакой записи у меня нет):
«…Представьте себе Солженицына, Сахарова, Аверинцева, Астафьева, которые проголосовали бы за Зюганова и Жириновского. Неужели эти люди, положившие жизнь за Россию, проголосовали бы именно так? Россия, ты одурела, опомнись!» Сказал и ушел.
ФОТО № 57
На следующий день увидал в газете (кажется, это был «Московский комсомолец») огромный заголовок – «Ночная боль Карякина». Господи, подумалось, неужели поняли? Не тут-то было. Посыпались угрожающие звонки, осуждающие голоса в печати. Михаил Лобанов даже сказал: до 12 декабря был писатель и достоевсковед Карякин, в ночь с 12 на 13 он умер. Травля продолжалась почти два месяца. Поддержали только друзья. Но эта поддержка – Булата Окуджавы, Фазиля Искандера и других – дорогого стоила.
В те дни я задумался: не может быть, чтобы не было такого дурачка, как я, в Германии в 32-м году, когда фашисты получили на парламентских выборах более 37 процентов голосов. Я обзвонил знакомых германоведов – они мне преподнесли немало цитат. Какой-то тогдашний дурачок, немецкий Карякин, говорил примерно так: неужели Гёте, Шиллер проголосовали бы за Шикльгрубера? Более того, Евгения Кацева, замечательный переводчик с немецкого и знаток немецкой литературы, мне подарила стих, где автор писал: «Проснись, Германия, ты сошла с ума!..»
Идея моя была проста: и коммунизм, и фашизм – идеологии, которые, во-первых, снимают личную ответственность: «я» как «я» – ничто, дерьмо. Но в составе «большого дерьма» «я» оказываюсь могучей силой. Это понятно.
Второе более вредоносно и опасно. Эти идеологии допускают снятие ответственности народа. Народ несет свою ответственность, хотя нам по старой прогрессистской традиции кажется: народ всегда прав. Глас народа бывает не то что гласом Божьим, но и гласом дьявола – и даже большей частию! Народ должен нести ответственность. Личную! Достоевский говорил, что народ – это большая личность…
Народ не ошибается? Боже, как еще ошибается!
ФОТО 030
Я знаю три народа, которые в XX веке сумели ответить за содеянное в их странах. Во-первых, это немцы. Они действительно, благодаря прежде всего Бёллям (да простят меня за множественное число), осознали вину и принесли покаяние. Причем это произошло при исключительных условиях: они были разгромлены – это очень важно – и оказались у разбитого корыта… Впрочем, здесь заслуга и американцев – с их жесткой и справедливой юриспруденцией, которую они железно осуществляли. Благодаря Бёллю немцы покаялись. Они стали совершенно другой нацией.
Другой народ – японцы: примерно та же ситуация.
Кстати, трагедия нашей ситуации в том, что мы разгромлены изнутри. Когда-то в «намёчный» период я думал, писал, намекал на то, что нам нужен Нюрнбергский процесс. Нюрнбергского процесса у нас просто не может быть и не должно быть. Мы с ним слишком запоздали. Он мог состояться только в 1956 году – после речи Хрущева. Но тогда не было ни моральных, ни политических сил для покаяния. Тогда только один Александр Исаевич мог призвать нас к этому. Он тоже, в этом смысле, идеалист.
Третий народ – американцы. Они покаялись после Вьетнама…
А у нас… Вот вам пример подлости и низости нашего падения: берут у матери сына и везут его в Афганистан. И всем запрещено даже об этом говорить. Когда же привозят на родину «цинковых мальчиков» (помните, у Светланы Алексиевич!) – и в гробах лежат не те, – рабий народ по-прежнему молчит. Ни одна мать, ни один отец, ни один брат, ни одна сестра, ни одна дочь, ни одна жена не протестовали, не пошли – и не сожгли себя, в конце концов. Вот вам прохановщина в чистом виде.
Когда мы забили в колокола насчет угрозы фашистов, скинхедов?
Помню, в самом начале 90-х я предложил на «Московской трибуне» обсудить вопрос о фашизме. Многим показалось это неактуальным. Потом депутат М.М. Молоствов, сиделец, совестливейший человек, друг Юрия Давыдова, предложил поставить на обсуждение в Верховном Совете России вопрос о распространении среди молодежи неонацистских идей, о формировании отрядов скинхедов. Не поддержал никто. Помнится, я тогда спрашивал многих из своих друзей, читают ли они газету «День» и прочие фашистские листки. Выяснилось: почти никто – «из-за брезгливости». Типичный идиотизм. Поблагодарить бы должны. Их предупреждают, как их будут вешать, а они из-за брезгливости этого не замечают. А нынче как все разрослось махровым цветом, а Проханов стал чуть ли не звездой телеэкрана и частым гостем многих радиостанций, в том числе распрогрессивнейшего «Эха Москвы». А ведь Булат Окуджава еще в октябре 1994-го (смотрю записи наших разговоров в дневнике) сетовал на то, что «мы все работаем друг на друга, друг для друга и никто не разъясняет людям, постепенно и упорно, что такое свобода, демократия… даже что такое коммунизм и фашизм».
Да, та декабрьская ночь в Кремле многими была воспринята как «ночь позора». Для умных и спокойных политологов она стала доказательством того, что политическая элита России мало знает свое общество (Лилия Шевцова). Для меня это был конец моих романтических политических иллюзий. Наступали новые времена. Вхождение в политику кончилось. Надо было возвращаться снова в свою кабинетную каморку. Впрочем, теперь это была уже не клетушка, а совершенно роскошный (по моим жизненным меркам) второй этаж писательской дачи в Переделкине, куда мы переехали с Ирой в 1993 году.
МНЕ СНОВА СТАЛ ДОСУГ УЧИТЬСЯ…
Спокойное переделкинское житье располагало опять к запойному чтению, учебе и осознанной перемене убеждений, точнее к полному освобождению, высвобождению от всех и всяческих прежних идеологических иллюзий. Своеобразным промежуточным итогом моих размышлений стала статья «Верны ли мои убеждения?», которую из меня буквально вытянул мой друг и сосед по даче (в Баковке) Анатолий Аврамов.
В 1995 году он возглавил обновленное ежемесячное издание «Журналист», которое еще в конце 60-х или начале 70-х, теперь уж не упомню, создавал Егор Яковлев. В новой редакции родилась неплохая идея: посмотреть, что случилось за десять лет, прошедших с начала горбачевской перестройки и гласности, с авторами «громких перестроечных» статей. Авторы эти – как было сказано в редакции – «немало способствовали расцвету «толстых» журналов, а теперь оказались в тени. Хотелось бы вернуться в недавнее прошлое и соотнести его с настоящим».
Мне же хотелось выговориться, и в этом мне помог мой интервьюер.
– Сегодня моя статья 87-го года (речь идет о статье «Стоит ли наступать на грабли», опубликованной в журнале «Знамя», № 9) кажется мне доисторической. Нет, там было много верного, но все-таки я и сам тогда наступил на грабли. С тех пор 8 лет прошло. Никогда у меня не было столь интенсивной работы по преодолению прежних иллюзий.
После 56-го года (XX съезд) у большинства моих сверстников по университету открылись глаза на Сталина, но, как ни странно, еще больше ослепли на Ленина. Почему?
У каждого, конечно, свой ответ. Я – о себе.
Во-первых, не хватало ни фактов, ни их понимания: ведь дрессировали-то нас идеологически с самого детства. Гвозди, шурупы идейные вбивали, ввинчивали в наши головы каждый день по шляпку. Это может понять только тот, кто это испытал и кто их вытащил, вывинтил.
Во-вторых, мои родные со стороны отца и мамы (это человек десять дядьев и теток) все оказались людьми необычайно честными, щедрыми и мужественными. Их личная совестливость, благородство заслоняли принципиальную бессовестность ленинизма. Из них убили при Сталине троих, сидели тоже трое, остальные, соответственно, притеснялись. При этом они почти все были коммунистами, отец – так даже ленинского призыва.
В-третьих, когда для нас открылось так называемое «Завещание» Ленина, то ведь открылось-то оно прямо как завещание антисталинское. Не успел, дескать, Ленин его, Сталина, снять, зато Сталин сажал и расстреливал всех, кто об этом завещании знал…
К тому же все слилось, склеилось, перепуталось и далеко не сразу распуталось. Но главная аберрация была все-таки в том, что я смотрел (многие смотрели) на «единственно верное учение», как на Солнце, вокруг которого все-все и вращается, вся мировая культура, философия, наука… И вдруг (у меня на это «вдруг» лет 30 ушло) оказалось, что оно, само это учение, никакое не Солнце, оно вмешалось, ворвалось в нашу жизнь, в нашу культуру какой-то чудовищной кометой, все перекорежило, и еще удивительно, что мы остались пока живы… В этом свете вдруг прозреваешь и на старые, давным-давно известные факты, а уж новые становятся и того ослепительнее.
Прибавлю к этому, что мне еще невероятно посчастливилось: философский факультет МГУ, несмотря ни на что, дал все же очень много. Да еще потом выпало общаться с такими людьми, как Э. Ильенков, А. Зиновьев, М. Мамардашвили, Э. Неизвестный, М. Бахтин, А. Солженицын, А. Сахаров, А. Адамович, Ф. Искандер, Ю. Давыдов, Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Любимов, Ю. Ким, А. Якобсон – всех не перечислить. Это же какое облучение! Но я это не только со счастьем говорю, но и с горечью, потому что учеником я оказался довольно-таки посредственным – почти в каждом классе по два, по три года сидел. Однако подчеркну: если я – при таких учителях – сегодня, скажем в среду, кое-что наконец понял, то какое же я право имею обличать тех, кто еще во вчерашнем дне застрял, во вторнике или в понедельнике? Ведь я только что сам оттуда.
– А когда ваша «среда» случилась?
– На исходе 88-го. Тогда я фактически вышел из партии, а 22 июля 90-го (в день своего 60-летия) и формально.
– Но ведь вас раньше исключали из КПСС? За что?
– Да за путаницу в моей голове. Дело в том, что в 68-м году я одновременно выступил против Сталина за Ленина да еще за Солженицына, а им нужен был первый и не нужен последний. Вот и все.
– Но сейчас этой путаницы нет?
– Надеюсь, но судить не мне. Во всяком случае, если сформулировать главный урок из всего этого, то я хотел бы подписаться под словами А. И. Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ». Ч. IV. Гл. 1):
«Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительным, и я все порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна… Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями – она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами…
С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира. Но можно в каждом человеке его потеснить.
С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла, а не разбирая впопыхах – и носителей добра; само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство».
– Давайте вернемся к Ленину. Какие факты, связанные с ним, повлияли на вас наиболее сильно?
– Их сотни, тысячи, больше. Но «личных», «моих» фактов, которые окончательно пробили меня, примерно десять.
1. Убийство царской семьи, июль 18-го. Мало того, что Ленин, Свердлов и др. все это организовали (а особенно заметание следов, свалив все на «инициативу снизу»). Мало того, что нагло врали, официально объявив лишь о расстреле царя (а царица и дочери, мол, отправлены в безопасное место).
2. Ленин – Чичерину, 25 февраля 22-го (инструкция для переговоров с Западом): «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью». (И эта заповедь была выполнена и перевыполнена.)
– Что, прямо так и сказано, этими словами?
– Не сказано, а написано. Проверьте. А уж сказано-насказано между своими было и не такое.
3. Но вот факт третий, 20-й год. Ленин рекомендует воспользоваться проникновением банд «зеленых» на нашей западной границе: «Под видом «зеленых» (мы потом на них и свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 р. За повешенного».
4. Ленин – Молотову, 19 марта 22-го. Приказ подавить сопротивление духовенства «с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».
5. Высылка за границу по приказу Ленина лучших философов, ученых, писателей на пароходах (настоящий духовно-интеллектуальный цвет России). Спасибо еще, что не догадались потопить в открытом море – «под видом» каких-нибудь «зеленых».
6. Оказывается, один из самых любимых героев Ленина – С. Г. Нечаев, прототип Петра Верховенского из «Бесов». А самый ненавистный роман – разумеется, «Бесы».
7. Со школы я запомнил, как в самые трудные, голодные годы Ленин озаботился тем, чтобы помочь академику И. П. Павлову. Теперь знаю мотивировку этой благородной гуманитарной помощи: чтобы не выпускать Павлова за границу, где он, несомненно, будет выступать против большевистской диктатуры, задобрить его пайком. Такова циничная подоплека той школьной рождественской сказочки.
8. После Достоевского, Чехова, Толстого не было в России столь надежного духовно-нравственного авторитета, как В. Г. Короленко. Луначарский прочил его в президенты будущей республики. Президентом, однако, стал Ленин. Прочитав одну брошюру Короленко, он поставил автора в ряд «интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации». Окончательный вердикт: «На деле это не мозг, а говно». Однако после антибольшевистских выступлений Короленко («Русская литература не с вами, а против вас», «сила большевизма в демагогической упрощенности», вы установили «власть доноса») Ленин дает срочное поручение Луначарскому поговорить с Короленко и завязать с ним переписку, в надежде приручить непокорного. Короленко пишет Луначарскому шесть писем, отчаянных и мудрых (невольно вспомнишь «Письмо вождям» Солженицына). Разумеется, никакого обещанного ответа и никакой обещанной публикации.
9. Еще одна чеканная формула Ленина: «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». Таков точный «перевод» его же формулы: «Партия есть ум, честь и совесть эпохи». Короче, постепенно выяснилось, что все, от чего меня отталкивало, Ленину было любезно, а все, к чему я притягивался, начинал любить, он ненавидел.
– А какие книги о Ленине на вас больше всего повлияли в этой смене убеждений?
– Всех не назову – их десятки, но три главные и первые – это Н. Валентинов «Встреча с Лениным», А. Солженицын «Ленин в Цюрихе» и Вен. Ерофеев «Моя маленькая лениниана». Как говорил Ленин о «Что делать?» Чернышевского, они «меня всего перепахали».
Да, фактов неотразимых – тысячи, книг – сотни. Но я хочу сказать сейчас об одной вещи, которая является здесь уникальной для познания, уникальной методологически (и даже методически): закончился, заканчивается грандиозный всемирный социальный эксперимент с коммунизмом, огромный исторический цикл. И вот его главный итог:
ПРИ ТАКОЙ-ТО ЦЕНЕ ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?!
То есть мы можем рассматривать весь путь в свете конечного результата. Вещь действительно уникальная.
Вдумаемся в тему: фактор времени в теории и практике социалистической революции.
Есть известное высказывание Ленина о том, что Маркс и Энгельс действительно часто ошибались в определении сроков революции. И, дескать, напрасно издевались над этим всякие там филистеры, ибо эта ошибка благороднейшая: за ней – святое нетерпение видеть мир обновленным и осчастливленным...
Я бы добавил к этому: не просто часто, а очень часто, слишком часто, почти беспрерывно классики ошибались именно в сроках. Здесь какая-то дурная бесконечность, какая-то фатальность. Можно (и должно) составить настоящую антологию по этой теме. Уверен, она произведет ошеломляющее впечатление. Даже в начале 50-х годов прошлого века Маркс (уже «зрелый Маркс»), заметив падение денежного курса на Лондонской бирже, открывает в этом падении математическое доказательство близости революции. Это лишь один факт из десятков. Но все они предопределены классической установкой, четче, резче всего сформулированной в «Капитале» (последняя страница первого тома): превращение капиталистической собственности в общественную есть далеко не столь длительный, тяжелый и мучительный процесс, как превращение раздробленной частной собственности в капиталистическую. Там экспроприировалась масса народа немногими узурпаторами. Здесь все наоборот: огромная масса экспроприирует совсем-совсем немногих узурпаторов. А потому этот процесс будет несравненно короче, легче и безболезненнее… Перед нами грубо механическое решение сложнейшей социальной, духовной, психологической задачи. Примитивно арифметический подход к наивысшей математике.
Несравненно короче, легче и безболезненнее… Сравните! Сравните именно в свете известного сегодня результата.
А метания Ленина? В январе 1917-го юным швейцарцам он говорит, что мы, старики, не доживем до начала революции, а через десять месяцев берет власть. Кажется, на этот раз сама история обогнала вождя. Да ведь только кажется. Не успели взять власть – и тут же «перевели» непонятное латинское выражение «экспроприаторов экспроприируем» на «всем понятный язык»: «Грабь награбленное!» Это в России-то! В России, где, по выражению Карамзина, воруют все, а тут воровство, прямой грабеж возвели в ранг высшей революционной добродетели… Ждут со дня на день, с часа на час победы мировой революции. Ленин объявляет 1 мая 1919 года: «Большинство присутствующих, не переступивших 30–35-летнего возраста, увидят расцвет коммунизма…» Где сегодня все эти 30–35-летние?.. Сколько им сегодня должно было бы быть? Лет по 105–110…
– Позвольте, а НЭП?
– НЭП? О, сколько тут было и осталось иллюзий! Вот слова Ленина (декабрь 19-го) о «свободе торговли хлебом»: «Против этого мы будем бороться до последней капли крови. Здесь не может быть никаких уступок». НЭП даже в партии пробивал себе дорогу вопреки, а не благодаря Ленину. НЭП ведь состоялся лишь после и в результате Кронштадта, лишь после и в результате крестьянских восстаний. Никакое это не гениальное открытие. Просто в самый последний момент успели выскочить из капкана, который сами себе и поставили. Но выскочили-то единственно для того, чтобы сохранить свою власть. Это был НЭП – при усилении однопартийности, вплоть до запрета каких бы то ни было фракций внутри партии (X съезд), вплоть до указания Ленина, что «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». Сообразили хоть в устав и программу не вносить этот пункт, но действовали всегда в соответствии с ним. Он и был эпиграфом XIV съезда, который сетовал: «Мы страдаем не от так называемого «доносительства», а именно от недоносительства». Это был НЭП – при ужесточении цензуры. («Свобода печати? – говорил Ленин.– Мы самоубийством кончать не собираемся».) Это был НЭП – при безграничном расширении статьи, карающей за «антисоветскую деятельность» (тут же и начались фальсифицированные процессы против политических оппонентов). НЭП – при беспощадном физическом уничтожении церковнослужителей и вообще верующих. НЭП – при организации чекистской облавы (по прямому указанию Ленина) на либерально-демократическую интеллигенцию. НЭП, когда (уже после смерти Ленина, но по Ленину) весь XIII съезд РКП(б) чуть со смеху не помер, выслушав только цитату из письма ленинградских инженеров, требовавших каких-то «прав человека»… Зачитывал цитату и отвечал Г. Зиновьев: «Не видать вам этих прав как своих ушей». Зал опять хохотал и аплодировал. Очень интересно было бы узнать, как из такой веселой, насквозь чекистской нэповской России могла родиться Россия социалистическая?..
Родился «Великий перелом». В 1929–1932 годах было уничтожено не менее 10 миллионов человек. Глухой стон стоял в России, все раны кровоточили. Как говорил поэт Н. Коржавин:
Ножами по живому телу они чертили свой чертеж.
Но вдруг было объявлено (всего через четыре года), что социализм уже построен и начинается переход к коммунизму (а хохотавшие на XIII съезде над «правами человека» и призывавшие к доносам на XIV съезде уже почти все перебили друг друга)…
В
1961-м нам был обещан полный коммунизм к
1980-му. А тут еще Мао вызвал нас на
коммунистическое соревнование: «Десять
лет упорного труда –
десять тысяч лет счастливой жизни».
Составить бы список всех этих обещаний
всех этих чаушесок, кимирсенов,
Да, все началось с ошибки. Причем ошибка ошибке рознь, к тому же ошибка до взятия власти – одно, тут волей-неволей приходится больше считаться с реальностью, но ошибка после взятия власти – нечто другое, потому что удержание власти становится единственно реальной самоцелью. Тут беспрерывные посулы измотанному, надорвавшемуся, изнасилованному народу и запугивание его врагами внешними и внутренними – вот единственное горючее, которое питало локомотив власти. Но все равно ничего не получается (где социализм как высшая производительность труда?), и вожди прекрасно знают об этом, знают, что ни одна сталинская пятилетка не выполнена, знают и – объявляют, что все они перевыполнены (конечно, предварительно ликвидировав всех сколько-нибудь объективных статистиков).
Есть много разных «оснований деления» для хронологии истории. Мне кажется, в нашей истории помогает разобраться и такое «основание деления»: два периода у нас было: первый – самообманный, романтический, так сказать, и второй – сознательно обманный, лживый, циничный (оговорюсь: оба периода – сообщающиеся сосуды; уже в первом было много от второго, а во втором не так уж мало и от первого). Первый – короче, второй – подлиннее. А эпиграф к обоим один и тот же: «Клячу истории загоним…» И – почти загнали…
На деле произошло не превращение социализма из утопии в науку. Произошла замена всех прежних утопий новой, трижды утопической. И если на деле все утопии – это лишь осуществление антиутопии, то наша и есть трижды антиутопия. Если все утопии на практике означают соревнование в составлении и реализации наиболее длинных проскрипционных списков, то наши списки длиннее всех предыдущих, вместе взятых.
Кто не знает слов Маркса о «родимых пятнах» капитализма? Эти слова – многолетнее, универсальное и, казалось, убедительное объяснение едва ли не всех наших «ошибок» и «недостатков» (на деле – преступлений). Но в этих словах невольная и страшная проговорка. Вдумаемся. От «родимых пятен» никто не умирал. Иногда они даже украшают. Проговорка в том и состоит, что Маркс (как и в приведенном выше случае с «Капиталом») чрезвычайно облегчил себе задачу объяснения и изменения мира, объявив, в сущности, всю историческую наследственность человечества «родимыми пятнами», поставив задачу стереть именно эту наследственность как простые «родимые пятна».
Таким образом, «единственно научное учение» абсолютно не приняло в расчет все завоевания религии, культуры, науки, мировой литературы, которые, может быть, яснее и короче других отчеканил «лжеученый» и «реакционер» Спенсер: как могут рождаться золотые характеры из свинцовых предрассудков?
Насилие над жизнью не может не проявляться насилием над временем, не может не выявиться сначала романтическим самообманом, а потом и циничным обманом насчет сроков наступления земного рая. Сама неосуществимость коммунизма и предполагает, предопределяет насилие, самообман и обман.
Вот еще факты. Даже, казалось бы, чисто философские, сугубо теоретические работы Ленина являются своего рода судебно-политическими процессами над оппонентами, и приговор (пока, повторяю, вербально-идейный) здесь один, окончательный и никакому обжалованию не подлежащий,– только высшая мера. Возьмите «Материализм и эмпириокритицизм» или статью о «Вехах» – это же настоящий суд, настоящий процесс против чуть ли не всей русской и мировой философии, против идеализма и «поповщины». Политических ярлыков, ругательств, грубых, неприличных, порой просто площадных, здесь больше, чем философских, научных категорий.
А вот вам, к примеру, задушевные мысли, заметки Ленина – для себя – на полях Гегеля: «Материалист возвышает знание материи, природы, отсылая бога и защищающую его философскую сволочь в помойную яму. <…> Пошло – поповская идеалистическая болтовня о величии христианства. Мерзко, вонюче! <…> Бога жалко!! Сволочь идеалистическая!!» Заметки для себя? Как бы не так! Это заметки на карте будущих сражений. Это настоящее руководство к действию.
Из таких задушевных заметок для себя и родились впоследствии «совершенно секретные» приказы о физических расправах, тоже очень задушевные и тоже для себя, для своих, тем более задушевные, тем более для себя, для своих, чем более «совершенно секретные». Этот внутренний взрыв Ленина на полях Гегеля неизбежно аукнется 5 декабря 1931-го взрывом храма Христа Спасителя, взрывами десятков тысяч других храмов, тюрьмой, расстрелом сотен тысяч людей.
И еще о фактах, страшных, знаменательных и лишь недавно опубликованных. Со второй половины 1921-го у Ленина резко ухудшается здоровье. В 1922-м – удар за ударом. Начинает гаснуть интеллект. Приходится учиться читать, писать, решать элементарные арифметические задачи. 30 мая в течение 5 часов он не может помножить 7 на 12… Но что задумывает и что решает он во время все более редких и коротких промежутков просветления (кто поручится, что не в бреду или в полубреду)? Именно, именно: все то же самое – страшное письмо Молотову, задание ЧК выслеживать, отлавливать и высылать философов и ученых. Это ведь все как раз 22-й год.
6 марта 1923-го следует новый – сильнейший – удар и как следствие – «сенсорная афазия» (неспособность понимать обращенную к нему речь). Но ведь этой «сенсорной афазии» предшествовала другая – неспособность (и нежелание) понимать никаких своих оппонентов, неспособность понимать (и слушать) ничего, что расходится с «научным понятием» диктатуры пролетариата. Дальше – хуже: потеря речи. Но вот, с 20 июля, небольшое улучшение (однако речь больше не вернулась). Ему прочитывают заголовки газет. Он выбирает, что ему читать вслух. По поводу того, что на Украине у богатых мужиков отбирают излишки хлеба, Владимир Ильич «выразил большое неудовольствие, что это не было сделано до сих пор»… Перед нами едва ли не последнее осмысленное или полуосмысленное выражение своих неискоренимых идей, уже без слов, а только мимикой. Куда это отнести? Штрих к «Политическому завещанию»?
Можно все объяснить болезнью, бредом. Но ведь ясно прослеживается какая-то неумолимая логика, логика самой этой болезни: каждое просветление оборачивается новым помрачением, новым ужесточением. Как говорил Порфирий Петрович Раскольникову, тому Раскольникову, чье покаяние было особенно омерзительно Ленину: «…все это так-с, да зачем же, батюшка, в болезни-то да в бреду все такие именно грезы мерещатся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие-с? Так ли?» Боюсь, что не так. Не могли. 7 на 12 помножить не в силах. Не может ни говорить, ни писать, ни читать, ни понимать. Но распоряжаться судьбами миллионов людей, судьбами страны, народа может и всегда считает себя обязанным распоряжаться, распоряжаться абсолютно безоговорочно, все жесточе и беспощаднее.
Сравните три изображения Ленина. Первое, 1895-й. Семь руководителей «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Фотография необыкновенно выразительна психологически. Фотографируются-то специально, то есть позируют, перед походом, для истории. Собрались на подвиг. Особенно выразителен Ульянов. На нем печать абсолютной властности. Остальные – по сравнению с ним – кажутся даже какими-то расслабленными. «Хозяин разговора», вождь – он, это ясно. Он – воплощение той партии, той части (партия ведь это часть), которая претендует стать всем, стать целым. Он – в центре. Сидит. Молчит. Губы сжаты. Рука властно облокотилась на стол. Глаза смотрят прямо на тебя, в упор, но одновременно устремлены в себя. Молодой сгусток, невероятная концентрация невероятной же воли, энергии, целеустремленности. До предела сжатая пружина. Что-то будет, если (когда) она разожмется? Куда, в кого выстрелит? По крайней мере, двух, рядом с ним (Мартова и Потресова), она не пощадит.
Второе. 1917–1921 годы. Из сотен фотографий можно выбрать любую. Стоит. Призывает. На броневике, на балконе дворца, на грузовике, на деревянных, сколоченных наспех трибунах, на «кафедрах» съездов партии, Интернационала. Глаза сверкают. Рука выброшена вперед, указывая – нет, приказывая! – кого уничтожить, куда идти. Вместо буржуазного котелка – рабочая кепка. Пружина разжалась, выстрелила наконец. Внутренняя воля, энергия, целеустремленность становится и внешней, заражает сотни тысяч и миллионы.
Третье, 1923-й. Горки. Коляска. Балахон. Лежит и снова молчит. Глаза? Посмотрите. Сравните…
Мог ли он первый, через второго, увидеть себя третьего?
Какой Тициан, Леонардо, Микеланджело мог вообразить, изобразить такое? Жуткий триптих.
Жуткое возмездие. Справедливое ли?
Первое слово здесь должно было бы принадлежать тем (если бы они прозрели к моменту его умирания) 13 миллионам, которые сгорели в его любимой Гражданской войне, да еще тем десяткам миллионов, сгоревшим – по его предначертаниям – после…
– Вы (в «Граблях») цитировали Ленина: «Ни слова на веру, ни слова против совести». Как вы относитесь к этому сейчас?
– Я тогда верил этим словам и не понимал их в контексте всей его политической деятельности, не понимал, что истинность слов зависит, так сказать, и от уст говорящего. Ведь всю свою жизнь он проповедовал и осуществлял именно отрицание нравственности, совести в политике, обучал этому своих учеников. Что из них могло получиться, если их обучали, «как легче врать», как побеждать «сверхнаглостью», как убивать одних «врагов народа» и сваливать на других? Что? Еще более слепая вера в вождей и еще большая бессовестность. Что, если действительная совесть России – Короленко – был для него… (помним чем), если покаяние Раскольникова из «Преступления и наказания» было для него «морализаторской блевотиной», если он говорил о «Бесах» и «Братьях Карамазовых» – «пахучие произведения», «На эту дрянь у меня нет времени»? Что из его учеников могло получиться, если «хороший коммунист – хороший чекист»? Ученики и превзошли учителя. Вот он и спохватился, сам все посеяв и начав пожинать плоды рук своих. Да уже поздно было. Получилась, так сказать, вынужденная новая моральная политика, запоздалый моральный НЭП. Парадоксально, но принятое всерьез – «ни слова на веру, ни слова против совести» – и привело меня в конце концов к тому рубежу, где я сейчас и нахожусь. Сколько лет, повторяю, пытался я совместить Достоевского, а потом еще и Солженицына с Марксом и Лениным. Оказалось: абсолютно несовместны, как гений и злодейство. Как говорил Достоевский: «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?» Вот я пытался возбуждать этот вопрос.
Смена убеждений – вещь страшно серьезная, если она искренняя, бескорыстная и беспощадная к себе, а если лицемерная, корыстная, трусливая, то ведь это даже и скучно. Напомню, что и Достоевский начинал социалистом и даже говорил, что мог бы быть и нечаевцем. Замятин в большевиках побывал, а Солженицын в камере на Лубянке Ильича защищал…
–А можно такой вопрос: что было бы с вами – при прочих равных условиях, – родись вы лет на двадцать пораньше?
– Вы попали в точку. Я и сам неоднократно ломал себе голову над этим вопросом. Ответ неутешительный. В лучшем случае из меня получился бы какой-нибудь коктейль из «правого» Бухарина, Рютина и Ф. Раскольникова (имею в виду их выступления против Сталина). Это были бы протест, бунт, проклятие, однако бессильные, потому что происходили бы внутри клетки, в которую ты уже попался, точнее, внутри клетки, в которую попались твои мозг и душа. Хорошего коммунизма, оказывается, быть не может, а хорошего ленинизма не бывало. Понимаете, вероятно, система по природе своей не может быть понята изнутри, тем более преодолена. Только извне. Почему Бунин, Короленко, Ахматова, Набоков сразу все поняли? Да потому, что никогда не были в этой системе координат, а были в другой, в системе координат русской и мировой культуры, а оттуда все видно как на ладони. Коммунист же, вытаскивающий себя из сталинизма с помощью, скажем, Ленина,– это даже не Мюнхгаузен, вытаскивающий себя из болота за волосы, нет, это лысый Мюнхгаузен. Только, повторяю, это далеко не сразу понимается.
ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ ДНЕВНИК
(1994 – ….)
Авось меня как-нибудь потерпят среди живых,
мои писания, может быть, выйдут наружу и покажут,
что я был учеником истины…
Франческо Петрарка
Итак, в 93-м мы оказались в Переделкино.
ФОТО 102
Впервые в жизни появилось ощущение своего дома. Впервые выбрались из московской клетушки на сосновый простор. Стали размещать книги в моем кабинете, по размерам превышавшем всю нашу прежнюю черемушкинскую квартиру. Установили стеллаж и для моих дневников – небольших книжиц карманного формата, которые я обычно носил с собой и куда записывал всякие мысли, приходившие в голову. Привычка эта – вести дневник, вернее, не собственно дневник, а делать очень короткие и порой никому не понятные (даже и мне с годами) заметки – возникла у меня давно. И хотя, как считают все мои друзья и близкие, большего разгильдяя, чем Карякин, нет, оказалось, что благодаря выработанной с годами привычке записывать все более или менее стоящее, что мелькало в мозгу, собралась очень своеобразная хроника моих мыслей за полвека.
ФОТО 101
И тут я вдруг понял: все, что мной написано и пишется, опубликовано или, даст Бог, будет опубликовано, – это ДНЕВНИК РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ. А в основе всего этого и лежат реальные дневники, которые я веду с 1953 года (больше тысячи записных книжек).
Дневник и мемуары – разница огромнейшая, принципиальнейшая, непреодолимая. Дневник – смотришься в зеркало. Дневник – моментальная фотография, сегодняшняя, сиюминутная. Решение сегодняшних задач без знания завтрашнего ответа…
…Всякий раз, когда беру в руки свои старые дневники, смотрюсь в это зеркало, возникает искус, вольно или невольно, это зеркало разбить.
Искус главный? Конечно, конечно – подделать себя, подделаться. Что-то выкинуть, сжечь. Что-то вписать…
Хочу я перво-наперво
жизнь
перевспомнить набело…
<…>
А жизнь, она противится.
Не хочет редактироваться.
Не хочет редактироваться…
Не хочет.
(Последние стихи Роберта Рождественского)
Это все равно что делать новый фотоальбом – на том основании, что в старом ты с годами все меньше себе нравишься. Это все равно что пытаться заново сфотографировать себя шестидесятилетнего – двадцатилетним, тридцатилетним… Подделать-то можно, но рано или поздно фальшивка обнаружится…
Дневник – зеркало, фотография, вольный или невольный (если, разумеется, ты искренен в каждую минуту) А В Т О П О Р Т Р Е Т.
Гойя написал за свою жизнь более 20 автопортретов. Теперь представьте, что вдруг в конце жизни он решил их переписать!
Мемуары, даже написанные на основе дневника, даже при абсолютной памяти, – так или иначе решение вчерашней задачи с сегодняшним ответом. Вольно или невольно – подгонка…
С переездом в Переделкино я окончательно ушел из политики, в которую попал случайно, на волне перестройки, а потом и благодаря избранию народным депутатом. Чувствовал себя в политике как рыба на песке. Ну, выкрикну что-то, что другие еще боялись выкрикнуть… Наверное, это было нужно, даже необходимо.
Уйти-то ушел, а снова поплыть, как раньше, в привычной реке литературы оказалось непросто. В общем, был какой-то кризис. И тут мой переделкинский сосед и старый товарищ Юра Давыдов посоветовал: «А ты вместе с Ирой начни расшифровывать свои дневники. Наверное, всплывет много интересного».
И вот летом 1994 года, когда мы немного обустроились, начали расшифровку старых дневников. Начали вразбивку, что попадалось под руку. Сразу после расшифровки двух-трех строк хотелось уже прокомментировать. Выходило путано и сбивчиво. И тогда, отставив в сторону старые дневники, стали записывать почти каждый день новые впечатления и мысли. Так и сложился этот Переделкинский дневник или «Уколы мысли», представляющий лишь малую часть дневниковых записей. Замысел подготовить к печати более обстоятельный дневник, видимо, уже не осуществится мною никогда. Нет уже ни времени, ни сил.
Впрочем, некого винить, кроме самого себя. Ибо главный мой недостаток – безграничность, вытекающая из глупой надежды на бесконечную жизнь. Кажется, Гёте сказал: чтобы стать гением, надо себя ограничить. На гения никогда не претендовал, но кое-какие мысли в голове иногда появлялись. Как правило, это были замыслы, а вот на их реализацию духу не хватало. Ведь на самом деле безграничность – сильный тормоз в работе. Не надо рваться в бесконечность. Рваться надо – в ограниченность. Необходимо себя ограничивать. Не умею. До сих пор мечусь между двумя полюсами, отнюдь не самоуничтожающимися, – взять и отдать. Все время ощущаю собственную безграмотность, и хочется еще и еще знаний. Но «ликбез» сам по себе – бесконечен. Все, что я могу и должен сказать, я уже нажил. А самосознание ничтожности собственных знаний – этот самый ликбез – несопоставим с радостью собственного открытия. Ведь в последнем случае ты не просто одаряешь себя познанием, добытым человечеством, но одаряешь человечество знаниями и опытом (прежде всего духовным), пережитым тобой лично.
Дневник мой предстает порой для меня самого как чистый сумбур. Почему я «сумбурю»? Да просто потому, что систематизировать, т.е. «подвести магнит» под все эти опилки, может или сможет всякий сколько-нибудь умный, талантливый человек, а тем более (всхлипну я!) полюбивший мою грешную душу. Наверное, а и сам бы смог. Но, смею уверить: раз этот «сноп» опилок летит, извергается, – я точно знаю! – его нельзя остановить. Потом его не будет.
2 января
У меня сейчас крайне, предельно выгодная позиция… Дождался, дожил, ничего не надо, кроме, разумеется, как… умереть достойно. Что значит умереть достойно?
1) Успеть отдать нажитое.
2) Успеть рассказать о своем правдашнем и неправдашнем. О своем пути духовном (тем самым – о своем поколении).
Хотелось бы не только отчитаться за свой путь, но и помочь другим – непосредственно помочь в начале их пути, помочь не проповедью, не притчей, а исповедью, но не прямо в лоб, а исповедью «растворенной».
19 января – 26 января
Осиротел сразу, в одну неделю. Нет больше матери, нет старшей сестры, нет старшего брата. В один день с мамой, 19 января, умерла Наташа Ильина, а 26-го – совершенно неожиданно – Алесь Адамович.
ФОТО № 77 и 094
Начало марта
Я не принадлежу, к сожалению, к тем людям моего поколения, кому с самого начала было все ясно насчет марксизма и коммунистического режима. Думаю, число таковых крайне преувеличено. Даже Мераб Мамардашвили… Ну не из-за цинизма же умственного был он в рядах КПСС.
Я принадлежу к тем, кто «проснулся», очнулся, прозрел (точнее – начал просыпаться, прозревать) после XX съезда (предпосылки, конечно, были – увлечение искусством, беспорядочное и запойное чтение русской и мировой литературы, консерватория). Но я очень долго оставался этаким Маугли. Если хотите другой образ – свинцовая заслонка в мозгах…
Разрыв с коммунизмом у всех происходит по-разному.
Как рвут с коммунизмом? Из-за чего? Из-за карьеры? Искренне? По-видимому, здесь-то и критерий главный.
Сегодня объективный ученый – да еще под небывалым напором фактов – не может быть за коммунизм.
Все Зюгановы – небывалое сочетание тупости и цинизма. Цинизм, конечно, отвратителен, но все-таки до сих пор он был связан с умом: мир, дескать, омерзителен, из этого надо исходить, нельзя прекраснодушничать, а надо найти свое – наилучшее – место в этой жизни. Какой-никакой, но ум. А здесь – тупость. Коммунизм Зюгановых – без атеизма, без уничтожения частной собственности, без диктатуры пролетариата, однопартийности, запрета фракций внутри одной партии, интернационализма, уничтожающего национальность… Какой же это коммунизм? Что от коммунизма осталось? Не больше ни на грамм, чем все то, что есть у социал-демократов, а еще основательнее – у либералов и консерваторов, которые к тому же осуществляют на деле свои принципы.
В этом смысле Анпилов и Андреева куда как более последовательны, оставаясь на позициях «монолита». Ведь марксизм – это такой монолит, из которого если вынешь хоть один кирпичик, да хоть и молекулу одну, атом один – сразу и начнет рассыпаться.
Очень давно тревожило меня (полуосознанно, полутрусливо): Ленин – ниже, слабее Маркса–Энгельса, что уж говорить о Сталине! Напал (начал предчувствовать) на закон – закон понижения качества, понижения уровня, т.е. выявления сущности (не возвышение, а именно понижение). Напасть-то напал, а поверить – испугался: не закон, дескать, а просто искажение Идеала. Стало быть, надо его – Идеал – восстановить. И много лет затратил на бесполезные попытки «восстановления» идеала.
В моей жизни, как и в жизни многих «шестидесятников», был целый период подборки хороших цитат из Маркса–Энгельса–Ленина и отчаянная борьба за них, за эти цитаты, которые считались «ересью». Дурачки! Мы хотели цитатами пробить каменную – не каменную, – железную стену.
Любили Ленина за антисталинское «Завещание», любили Ленина за НЭП, за мирное сосуществование…
Недавно прочитал, кажется, в «Известиях», о том, что делается, что делали с трупом Ленина в Мавзолее. И тут всё врали (как статистика вся, как со Стахановым, с «Челюскиным», как баржа с заключенными, которую потопили). Оказывается, давным-давно труп гниет, его маскируют, начальству врут, премии получают, конкурентов сажали…
В сущности, это и есть образ марксизма-ленинизма. Рано или поздно проступают трупные пятна… Что это? Искажение идеала? Да нет его, марксистского Идеала. Есть лишь долгое выявление его сущности.
А вот еще об одном из первых моих главных «прозрений» (сначала пронзило, потом заглохло, потом возродилось):
Есть точные науки – физика, химия, астрономия…
Ну, можно ли физику называть ньютонизмом, химию – менделеевизмом, астрономию – коперникианством? А науку об обществе, о человечестве, о человеке, т. е. науку, совмещающую в себе все науки, уже известные и еще неизвестные, втиснуть в учение, тоже названное одним именем? Это же полный абсурд: марксизм, ленинизм…
Подумал, обожгло очень давно, но тогда еще боялся высказать публично.
А как же Христос? Христианство? Не наука, но все равно – мировоззрение, мироощущение, долговечнейшая эпоха… Как тут быть? Тоже по имени же названное…
Мучился. Понял вдруг: христианство потому-то и неискоренимо, что в самой закваске, в зачатье своем, имеет личность, конкретнейшую личность с детальнейшими деталями, а не абстрактнейшую идею (заметьте: чем более гениален марксизм-ленинизм, тем меньше должно нам знать о конкретной жизни этих гениев).
Обаяние, нет, неправильно, неотвратимая притягательность именно личности Христа – вот в чем тайна неодолимости христианства.
Уничтожение личности – во мне, в тебе, в нас и даже в «основателях» – вот в чем секрет обреченности марксизма-ленинизма. Личность уничтожена не только в подданных, но и в «отцах-основателях»
Вся суть дела в том, что духовно-нравственного авторитета у Маркса, Ленина нет. А что есть? Обратная фальсификация от якобы абсолютно истинной идеологии, науки, стало быть, к абсолютно «непорочной» личности.
Но, может быть, главная молния, которая меня пробила, была мысль, которой я долго боялся. От кого она ко мне пришла? Немножко от себя, немножко от вычитанного, а главное, наверное, от Бахтина – «солилоквиум», минуя пространства и времена…
Усадить всех гениев – умерших, живых и будущих – за один стол. Пусть дискутируют.
И вдруг меня ударило: а что, если бы Пушкин, Гоголь. Достоевский и Толстой, Чехов дожили бы до Октября или воскресли бы во времена Октября? Что бы они сказали?!
Мысль эта долго наклевывалась, проклевывалась во мне, я боялся ее, я любил ее, снова боялся. Все равно взорвалась, и отступать было некуда: отреклись и прокляли бы. Значит? Тут уж выбор окончательный.
И: что бы с ними мы (марксисты) сделали?.. «Если бы…»
Ахматова, Пастернак, Мандельштам – не Пушкин?
Вернадский, Вавилов, Павлов – не Коперник?..
«Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза… Мы всякого гения потушим в младенчестве…» – неистовствует Петруша Верховенский в «Бесах».
«Если бы…»
Все это и осуществилось.
Когда, кто подсчитает, сколько гениев было задушено в младенчестве?..
1 апреля
Как всегда, собрались в доме Корнея Ивановича Чуковского на его день рождения. Думаю, о нем и скажу, как он из познавателя превратился в творца.
5 апреля
Пришел от Юры Давыдова. Никто лучше его не знает эти тысячи фактов, частью значительной добытых им самим. Никто не потратил столько времени и тихой страсти на такое собирательство. Владелец фактов. Монополист знания. Но с публикацией монополия кончается.
Один из его любимых героев – Герман Лопатин, совестливый и честный. Сколько их таких? Герцен, Лавров, Короленко…
Совесть и честность – разные, по Достоевскому (см. его письмо Кавелину), понятия. Совестливых много, чересчур много. Святых – полно. Честных не найдешь. Но честь иногда перерастает в совесть, а иногда и наоборот. Совесть перерастает в честь, восполняется честью.
ФОТО 084
Из разговора с Юрой:
Я: Все-таки Достоевский брякнул: Крым всегда был наш, искони российский…
Ю. Давыдов: Он тут и классику забыл: «времен Очакова и покоренья Крыма…» ПОКОРЕНИЕ!
…Идет Его Препохабие Капитал. Об этом в свое время говорили Михайловский, Островский, Гоголь…
Скучно, тоскливо, а делать нечего, кроме как делать свое дело, работать свою работу.
22 апреля
Маяковский: «С Лениным в башке и с наганом в руке»…
Никто так не помог мне вышибить из башки Ленина, как Солженицын. И убедил он меня не фактами (не только фактами ), а ТОНОМ, ГЛАЗАМИ… И без всяких доказательств чувствовалось, что говорит истина. Солженицын потому и понял Ленина так глубоко («Ленин в Цюрихе»), что в нем самом это сидело в молодости и он это выкорчевал.
Май
Для меня лучшие книги о Достоевском (если выбирать одну или две) – М.М. Бахтина и Н.А. Бердяева. Первое было мне ясно еще 30 лет назад, а второе выяснилось совсем недавно. Но тут особый вопрос. Моя вина и беда – в непонимании Бердяева, при ЗНАНИИ его почти всего еще в 53–56-м годах.
В книге Бахтина о Достоевском – ни полслова о Бердяеве. Почему? Не знал? Не мог не знать, ведь книга-то Бердяева вышла в 1921-м, а Бахтина – в 1929-м… Не мог упоминать уже тогда? Но странно, что и в нашем долгом ночном разговоре с ним в его доме в Саранске в 1966 году Михаил Михайлович не сказал о Бердяеве ни слова. Замечательный был разговор. Снята была разница в возрасте.
Из старых записей реплика:
У тебя трудодень, а у меня трудоночь..
18 июня
Позвонили со «Свободы». Василю Быкову – 60.
Для меня Василь Быков стоит в ряду имен нашей совести. Совесть – ведь это СО-ВЕСТЬ: честная весть о наших бедах и радостях, слишком часто о бедах и слишком редко – о радостях. Он стоит в ряду самых совестливых людей не только Белоруссии, но и всей России, таких как Сахаров, Солженицын, Астафьев, Адамович, Тендряков. Один «Круглянский мост» чего стоит – как песни Высоцкого. Такого испытания совести при таких «сверхдавлениях», может быть, и вся литература до сих пор не знала. И уж никогда он не стоял и не будет стоять в ряду всяких там Куняевых, Прохановых, Бондаревых… Я человек не злорадный, но мне доставляет удовольствие видеть, как эти последние его боятся. Бойтесь, бойтесь, правильно делаете. А нам не надо бояться злобы и ненависти, а надо знать их природу: природа – трусость.
Что еще… Дай тебе Бог, Василь, как можно больше сил и поменьше бед и болезней. Все равно я убежден: твое главное Слово – еще впереди. Скажи его!
24 июля
Рассказал Ириному племяннику Виктору (он психиатр) о той своей весенней ночи 1948 г., когда прочитал «Коммунистический манифест» и когда мне вдруг сразу стала ясной вся история человечества. Витя, ссылаясь на книгу М.И. Рыбальского «Бред», заметил: кристаллизация в юношеском мозгу коммунистической доктрины с удивительной точностью совпадает с механизмом бредообразования, когда из разрозненных фактов и многих необъяснимых вопросов создается цельная структура, разом все объясняющая.
Мои дополнения:
Шафаревич. Умница. Рационалист. Смел. Сбрендил на «малом народе». Сбрендил – парадокс! – чисто рационалистически.
Психиатрия без идеологии, по-видимому, в некоторых случаях необъяснима, и наоборот (таков случай Руссо, да и самого Маркса). Если бы проследить большинство «сдвигов», это обнаружилось бы даже статистически. Особенно очевидны религиозные «сдвиги». В средние века все психические сдвиги происходили на религиозной теме. У нас, у меня – на антирелигиозной, т.е. на квазирелигиозной, почве.
Вожди 18–20 вв. (не только вожди «первые», но и самые «последние») должны быть исследованы психиатрически. Вспомнился вдруг гениальный рассказ В. Тендрякова – о «невесте» Сталина.
25 июля
Развесил на веранде фотографии – раскадровку «Страшного суда» и «Неба» Сикстинской капеллы. И попытался представить, каково было Микеланджело, когда он вернулся в Капеллу, почти 30 лет спустя после завершения «Неба». Вероятно, главная трудность состояла в том, как сочетать это «небо» со стеной «Страшного суда». Ведь должно было быть ЕДИНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, т.е. главная задача – КОМПОЗИЦИОННАЯ. И вдруг, рассматривая небо и стену, увидел: Адам (которого я излюбил уже лет тридцать) и Христос – вот главное небо композиции, лучше сказать – луч света, молния, которая все соединяет и все освещает. Ведь Христос – вглядитесь – это тот же Адам, но уже зрелый. Наверное, тысячу раз смотрел раньше и не замечал.
5 августа
ФОТО 078 – 079
Разбирая старый дневник, наткнулся на короткую запись: 26 мая 68. Письмо отца. Вспомнил сразу все. Да, странная произошла вещь. Несколько лет я сочинял – то для «Новоселья» (так и не написал этот рассказ), то для «Бессвязных страничек» (диалоги времени) – «Письмо отца»… И вдруг 26 мая 1968 г. получил настоящее письмо отца. В этот день меня исключили из партии. Я пришел домой, к отцу (приемному) и маме, в Сокольники. Натужно весело и, конечно, немного деланно сказал: «Ну, вот и выгнали меня из партии. Надо выпить по такому случаю». А мать вдруг резко меня осадила: «Вот когда папу Лёню исключили из партии, то он не так себя вел… Плакал». Этот факт от меня тщательно скрывался. И вдруг… Мало того: она дала мне письмо моего отца ко мне. Вот тут-то, прочитав его, я действительно заревел…
И хоть это был уже 1968 год, страх все еще не покинул мать. Она проговорилась, а потом испугалась и… сожгла письмо. Так до самой смерти своей мне говорила, как ни пытался я выманить письмо. Может, и в самом деле сожгла.
В письме отцовском, насколько я его помню, было своего рода завещание мне – не следовать его путем, не приносить близких в жертву никаким идеям, никакой партии. Иногда во сне я его перечитываю. Проснувшись – не могу вспомнить. Помню только музыку, настрой.
Но не в этом даже самое главное и странное, непостижимое: ранее сочиненное мною «Письмо отца» на три четверти совпадает с настоящим – отдал всего себя революции, без остатка; выплюнули и растерли (именно эти слова были в его письме); гордился, дурак, тем, что всю жизнь отдал партии и мало занимался семьей, сыном. Виноват перед мамой и перед тобой. Когда был в силе, ничего не сделал, а теперь сделать ничего не могу. Поздно.
И вот выясняется, что отец в 1935 году был умнее меня в 1967-м, когда я сочинил свое «письмо отца». В его письме нет никаких большевистских напутствий, хотя, убежден, большевиком он оставался до смерти. Мое же «письмо» заканчивалось чем-то вроде: хочу одного – чтобы сын был человеком, коммунистом.
Нечто подобное со мной было в жизни один или два раза. Так, мои заметки на полях Нового Завета на две трети, даже больше, совпали с заметками Достоевского. Но это как-то объяснимо: я много лет пытался (сознательно и бессознательно) читать Евангелие его глазами. Было бы странно, если б таких совпадений не оказалось. Тогда бы я никуда не годился как человек, пытающийся понять его. Более того, уверен, каждый искренне любящий его человек, специально поставивший перед собой такую задачу, с той или иной точностью, с тем или иным «приближением» решил бы эту задачу.
29 августа
ФОТО 088
…на 9 днях по Роберту Рождественскому. Собрались у них на даче. Алла, великая женщина, прошла с ним всю жизнь и эти трудные последние и прекрасные годы. Какой взлет поэта. И какое мужество перед надвигавшейся смертью. Он все знал.
А я с ним познакомился только в 1988 году в Барселоне, на первом зарубежном «перестроечном» семинаре. Тогда встретились впервые наши писатели и журналисты (Фазиль Искандер, Алесь Адамович, Николай Шмелев, Анатолий Стреляный, Виталий Коротич, Андрей Нуйкин) и не наши, те, что за кордоном (Андрей Синявский, Валерий Чалидзе, Лев Копелев, Кронид Любарский, Раиса Орлова, Инна Каменская, Борис Вайль).
ФОТО 125 а 125 117
Роберт держался как-то в стороне, очень скромно. Потом только узнал я от Люси Синянской (прекрасной переводчицы испанской и латиноамериканской литературы), что во многом именно благодаря ему и стала возможной эта встреча, предложенная испанским «еврокоммунистом» Фернандо Клаудином. Когда все только затевалось, в писательском Союзе начальство испугалось. А Роберт взял на себя ответственность. Авторитет его был велик.
Я в те годы, как и многие, несправедливо держался от него на расстоянии. И вдруг на аэродроме увидел, как он – великан! – с трудом волочит свой чемодан.
– Помочь?
– Спасибо, я сам.
Тут только я понял, что этот человек очень болен. И еще впервые увидел его глаза: в них доброта, мука, скромная признательность, благодарность и благородство.
А уж потом в Переделкине в самый последний год сблизились. Я, дурачок, еще пытался привезти к нему доктора-»травника». Не понимал, насколько тяжела была его болезнь и что стоял он уже давно на самом краешке…
..За столом оказался рядом с Машей Евтушенко. Очень хороший разговор с ней. Вдруг она: нечестно быть несчастным. Я: и нечестно быть счастливым.
2 октября
Давно продумал, да не записал. На встрече с Джонатаном Шеллом меня задело его замечание – «Зюганов считает, что коммунизм неистребим, пока остаются бедные...»
Признание ценнейшее. В него стоит вдуматься. Оно невольно очень многое выдает. Быть сторонником коммунизма после всего, что произошло за последние 150 лет (законченный исторический цикл), быть сторонником коммунизма при современном уровне развития науки, при вдруг сдвинувшейся лавине глобальных проблем – это значит быть либо неисправимым циником, либо неисправимым тупицей.
Что же скрывает и открывает формула Зюганова? Признание: коммунисты будут всегда спекулировать на бедности людей и на их невежестве.
Коммунистические вожди в борьбе за власть, особенно в борьбе за личную власть, нередко выдавали не только и не столько их личные тайны, но и тайны, так сказать, родового коммунизма. Вспомним, как Троцкий называл Ленина «профессиональным эксплуататором отсталости рабочего движения». Вспомним, как Ленин говорил о краске стыда у Иудушки Троцкого (все они, большевики, без всякой краски стыда, при полном бесстыдстве, шулерски крали и меняли свои лозунги). Впрочем, в последнем случае (Ленин об Иудушке Троцком) у меня уже давно есть маленькое сомнение не по существу дела, а вот по какому вопросу. Уж очень вовремя Сталин вытащил эту не публиковавшуюся, по признанию издателей, заметку Ленина, чтобы прихлопнуть ею Троцкого. Учитывая абсолютную монополию Сталина на ленинские рукописи, учитывая, что подручными его были в этом деле люди, способные абсолютно на все, на любую фальсификацию и подделку, нельзя не предположить: а не написана ли эта «заметка Ленина» каким-нибудь Радеком или ему подобным (таких в своем роде талантов у Сталина было наготове сколько угодно)?
В шахматах (есть огромная шахматная литература) в первых 10–15 ходах уже почти невозможно ничего нового выдумать. Но в социальные шахматы люди играют не по Ласкеру, Капабланке и Алехину, не по Карпову и Каспарову, а по Остапу Бендеру: кто больше украдет фигур с доски...
Впервые это сравнение пришло мне в голову, когда 20 лет назад мы с Ирой и Анатолием Медведенко (журналист, долго работавший в Чили) разбирали «шахматную партию» Альенде. Я готовил тогда книгу «Уроки Чили» и обратил внимание на то, что в библиотеке была разобрана вся периодика, относившаяся к последним месяцам и последним неделям, дням правления Альенде. Почти никто не понял тогда, что «партия» была проиграна в самом дебюте: когда Альенде заключил не просто мир, но и союз с левыми экстремистами, когда он взял их в личную охрану, т.е. кормил бешеных собак, дав тем самым не просто повод, а ускоряющий толчок – кормить, размножать и выращивать и бешеных собак среди его противников; когда тот же Альенде упустил, под давлением «слева», единственную реальную возможность действительно мирного или хотя бы полумирного развития событий, отвергнув союз с христианскими демократами..
Коммунизм, конечно, нельзя просто отсечь, как нельзя отсечь одну сторону магнита. Но при этом нельзя отбросить и другое: коммунизм есть восстание против самой природы человека под лозунгом ее коренной переделки, а такая переделка станет ничем иным, как ломкой через колено.
…Россия одурела, обезумела прежде всего от коммунизма. Это главный ее долгострой. Строили, строили коммунизм, наконец-то бросили…
3 октября
Только что посмотрел телефильм «Противостояние» о событиях 3–4 октября прошлого года.
Господи, мне уже хорошо за шестьдесят, а я все не перестаю удивляться безграничному бесстыдству и абсолютной наглости таких типов, как Руцкой. Никогда не сотрутся кадры – кричит в микрофон: «Молодые, на штурм Останкина!..» (в Останкине было всего 8 милиционеров). Призывает бомбить Кремль. Мат рядом с православным славословием. А теперь еще ставшее достоянием публики признание Баркашова – Руцкой сказал им: «Баркашовцы, настал ваш звездный час!»
И после всего этого Руцкой нагло врет: «Наше поведение доказывает, что мы не хотели крови»... А Терехов? «Вышел бы полк, и вся эта власть исчезла бы к чертовой матери».
Посмотрел свои записи в ту ночь.
В Переделкине среди писателей паника, истерика. Понять можно. Что было бы, если бы они победили. Ведь в открытую говорили на своем Верховном Совете – смертная казнь инакомыслящим.
А четвертого те же переделкинцы – недовольны и бросают обвинения в адрес тех, кто их спас. Ну так и поставьте точки над «i»: как жалко, что нас спасли от фашизма, от коммунизма.
В тот вечер третьего мы с Алесем направлялись к больному Булату. Встретили Иру Ришину, она сообщила, что происходит в Москве. Рванули к Щекочу (Юрию Щекочихину). Тот сразу:
– Еду в Москву.
– Машина есть?
– Нет, поеду на электричке.
Уже к ночи звонит мне: «Сняли охрану у радиостанции «Эхо Москвы». Помоги!» Звоню Филатову. Его, конечно, нет. Потом узнал: его не пустили в Министерство обороны. Представил себе: одного боевика достаточно на каждую редакцию газет. Там же сидят либо пьющий старик, либо вяжущая чулки бабка. Завтра может не выйти ни одна газета. Сообразил: дозвонился Галине Николаевне (жена Филатова) домой. Рассказал ей все. Она передала ему. Сработало.
Потом выступал по «Эху Москвы». Выступали многие. Очень сильно С.С. Аверинцев («упыри повылазили...»). Мерзко – Румянцев («голос народа»). Позвонил домой Горбачеву: «Михаил Сергеевич, долг платежом красен. В свое время Ельцин вас спас. Теперь вы должны ему помочь, а вы кроете его последними словами в вашем итальянском заявлении...» Он: «Нужно написать Обращение к народу». И прочитал лекцию о своем историческом значении. Я: «Как вы не понимаете, что, как только возьмут Останкино, вас же повесят...» Я бросил трубку. Потом позвонил Щекочихину: «Дозвонись сам до М.С., и пусть скажет свое слово по радио». Сказал.
Позвонил в гараж Белого дома. К утру дали машину. Поехали вчетвером: я, Алесь, две Иры. По мосту мимо Белого дома... Шел обстрел.
На Васильевском спуске в 8 часов утра расстались. Я направился в Кремль, но не тут-то было. У Спасской башни проверяют пропуска – какая-то пьяная рожа. Не пустил корреспондента. Материт Ельцина. Понял, что не пропустит. Догнал Иру. В оцеплении со стороны Васильевского тоже «наши», те еще головорезы из хасбулатовцев. Наконец зашел со стороны ГУМа. Подошел к охране. «Вы – за президента или против?» – «За». Пропустили.
С 9 до 17 сидел в Кремле у Филатова. Ощущение растерянности...
На какую-то историческую секунду Россия опять повисла над пропастью.
4 октября
Никто, почти никто из тех народных депутатов, с кем мы с Алесем начинали, не выдержал испытание властью, деньгами или тщеславными потугами ни по каким, даже по самым низким, элементарным критериям: от Станкевича до Ельцина. Даже умница Яблоков (один из помощников Ельцина) как-то почти наивно признался мне в своем кремлевском кабинете: «Не хочу отсюда уходить»...
А ведь растерялся Борис Николаевич, как-то даже искренне растерялся, когда Рязанов в своем телеинтервью спросил его о дачах.
Пусть я идиот, но нужен, нужен личный, искренний, а не «демонстрационный» поступок, не подвиг, а элементарный поступок: не беру, не могу, нельзя. Это единственное, чем можно победить, покорить, вдохновить Россию, заставить в себя поверить. У моего дурацкого народа неистребима вера в высшую справедливость... И этой главной его особенностью никто, кроме мерзавцев, ни разу не «воспользовался».
24 октября
Был у Булата.
Он: Недостало нашим демократам ликбеза. Да, мы все работаем друг на друга, друг для друга. Никто не разъясняет людям, постепенно и упорно, что такое свобода, демократия... Даже что такое коммунизм и фашизм...
Сказал, что их с Олей пригласили вместе Д.С.Лихачевым и Г. Рождественским в качестве гостей на церемонию вручения Нобелевской премии. Ему будет «построен» фрак.
7 ноября
1917. Октябрь. Ленин...
А кто, например, помнит Морено? Того Морено, который именно в этом 1917 году опубликовал «Социометрию» (теорию «малых групп»)? Он первый ввел это понятие. А в это время, конечно, крупнейший практический социолог и психолог эпохи В.И. Ульянов не опубликовал, а реализовал свою социометрию: как «малые группы» могут править всеми...
Социологи, психологи ищут слова, понятия, категории, обозначив которые они смогут помочь нам познать самих себя.
ПОЛИТБЮРО КПСС – вот вам «малая группа»!.. ЖИЗНЬ – самый лучший социолог, самый лучший психолог. Чтобы пробиться в ПБ через миллионное сито, чтобы преодолеть столь жестокий дарвиновско-мичуринско-лысенковский естественно-искусственный отбор, надо обладать абсолютно определенными качествами... Они просеялись, отселекционировались, выжили (заметим: Молотов умер за 90, Каганович – под 100)
По слову Бога... Да нет, по слову дьявола. По образу и подобию его все коммунистическое общество и строилось.
Нет и не может быть самосознания без самообмана. Формы его, самообмана, – самые разные… Мужчины, женщины, дети, возраст…
Люди обычно боятся встречи со смертью, стремятся избежать ее, тут-то и корень.
––––––-
Выяснить: злободневность – чисто русское словообразование? В других языках – актуальность. Поразительно: ЗЛОБОдневность... А ДОБРОдневность?
––––––-
Как разрешается конфликт по-русски: победить (т.е. уничтожить одну сторону, убить).
Как разрешается конфликт по-английски: согласовать, достичь компромисса.
Лукин. Редкое сочетание. Долгий проверенный профессионализм. И – способность к поступкам. Умеет идти на риск (и для себя при этом). Но никогда никакого экстремизма.
ФОТО № 114
–––––––-
Для победы коммунизма или фашизма, тем более национал-коммунизма, необходимо соединение, сочетание двух вещей: 1) глубочайшего нарастающего кризиса и 2) идиотского энтузиазма масс.
Первое сейчас есть, но далеко не в тех размерах, что в России 1917-го или в Германии 1933-го. Второго нет, да еще потребуется время (если вообще удастся) обелить Сталина, Ленина, все репрессии и всех – от Крючкова до Янаева.
Что они будут делать? Усугублять кризис, потому что для них всегда: чем хуже, тем лучше… и попытаются впрыскивать энтузиазм. Но как?!
––-
Никогда не был ленинизм на уровне мировой литературы, особенно русской, ослеп на нее.
Что такое русская литература ХIХ–ХХ веков? Она подобна менделеевской таблице: были открыты, изучены, продемонстрированы все характеры, все типы человеческие, все страсти. Россия скотининых, кувшинных рыл, гоголевских городовых, достоевских, толстовских, чеховских, да и горьковских и сологубовских типов, характеров... Куда они все делись на другой день после Великого Октября?
А утром трамваи катили «уже при социализме» (Маяковский). Может, и катили, а куда Россия-то та девалась? Она же все это с собой и сделала. Никогда, никогда ни одна страна не была предупреждена столь задолго и столь точно, столь, если угодно, обильно, настойчиво о бедах, грозящих ей. Это была революция слепая и глухая ко всему, кроме жажды власти.
Не так давно Шахназаров (бывший помощник Горбачева, а ныне сотрудник Фонда его имени) сказал мне: да, ты, Юра был прав, когда напирал на мысль Ленина о том, что коммунистом можно стать только тогда, когда овладеешь всей мировой культурой...
Мой ответ: а по-моему, я ошибался. Тут все дело в словечке «овладеть». «Овладеть» мировой философией так, как «овладел» ею Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме»? Это же был фальсифицированный политический процесс со смертным приговором, который и был осуществлен в 1922 году (два философских парохода). Как Ленин «овладел» религией (а она что – не мировая культура?)? Перестреляем столько попов, чтобы 50 лет не очухались... «Овладеть «у него = изнасильничать... А сейчас не жалеть, а радоваться надо тому, что не «овладели». А если бы овладели (уже без кавычек), т.е. постигли, познали, прониклись, то от всего коммунизма остался бы пшик.
А теперь у них, видите ли, Пол Пот – карикатура на Сталина, Сталин – карикатура на Ленина, Ленин – на Маркса... А Маркс на кого? Неужто не видна, не сверхочевидна закономерность? Закономерность неуклонного изначально порочного понижения изначально низкого. Марксизм и есть по природе своей карикатура на культуру, убийственная пародия на самое жизнь.
Коммунизм не породил ни одного гениального художника, зато купил десятки и сотни талантливых, но гениального – ни одного.
«Бобок» Достоевского – это же чистые «Капричос» Гойи.
7 декабря
Георгий Семенов.
Фазиль (Искандер) в телепередаче о Г. Семенове: в конце концов, о каждом писателе можно сказать одним словом.
По-моему, это очень точно и, главное, свободно.
Каждый может сказать свое слово. Главное, что у меня осталось от Юры Семенова – осталось навсегда, – это УЛЫБКА. Предрассветная, дневная, вечерняя… Ночной – не могу представить. Вольтерьянской – никогда: ни юмора, ни сатиры у него отродясь не было, как нет юмора и сатиры у ПРИРОДЫ. Он и улыбался как природа: утренне, дневно, вечерне. Большей частью – открыто, но всегда – немножко стеснительно. Бывает улыбка наглая, усмешка, наглость торжествующего хамства... У него была всегда улыбка красоты, чуть-чуть не уверенная в самой себе, обаятельная. Улыбка природы и улыбка природе. Я не умею найти точный образ (пусть помогут поэты), но никогда я не забуду – на его круглом лице– подсолнухе эту улыбку.
–––-
Сегодня, наконец, посмотрел тома Ленина за 1914–1917 годы.
Знал, помнил, да не понимал до Солженицына: идея мировой революции осеняет Ленина в Швейцарии. Ему представляется, что начнется она в Швейцарии. Так как Швейцария – многоязычная страна, в ней все пересекается, вот она и должна быть центром, зачатком, ядром мировой революции. И тут же расписал участь всех до единого граждан этой милой страны: кому куда – в какие лагеря, расстрелы, виселицы… Первым открыл это А.И.С. Все это опубликовано, переопубликовано. Никто не заметил, кроме Солженицына. Никто не обжегся этим чудовищным фактом и никто не обжег других (очень немногих), как он.
В сущности, все теории «социального прогресса» – не что иное, как чудовищное соревнование по составлению длинных проскрипционных списков. Марксистско-ленинский оказался длиннее нацистско-гитлеровских. «Выиграл» соревнование марксизм-ленинизм.
24 марта 1995 года
Сегодня встретился с Михаилом Сергеевичем (Горбачевым) у него в Фонде. Он сам предложил «формат» встречи – не монолог (свой), а диалог (наш). Записывали для НТВ (в программу Евгения Киселева).
Не виделись, не разговаривали, по-моему, с ночи 4 октября 1993-го (я тогда бросил трубку), т. е. полтора года.
Пожалуй, никогда не был он столь открыт и одновременно противоречив. С одной стороны, говорил, что нельзя порочить 70 лет истории, ни тем более тысячу лет, с другой – в сущности, согласился со мной по всем пунктам, которые я ему тихо задавал, не заметив вопиющего противоречия между тем и другим.
Сдался, не поняв, что сдался, по НЭПу, по Короленко, по Гражданской войне. Хотя, согласившись со мной, что уже само определение диктатуры пролетариата и ЕСТЬ гражданская война, все же добавил: нельзя забывать о внешней интервенции, – пропустив мимо ушей, а кто их на это спровоцировал.
Долгий рассказ, как в 1983 году Андропов вдруг поручил ему, самому молодому члену Политбюро, сделать доклад о Ленине.
– Я решил сосредоточиться на «Завещании Ленина».
Тут я перебил:
– А ведь правда, когда случился XX съезд (1956 год), мы, во всяком случае я, прозрели на Сталина и еще больше ослепли на Ленина?
– Правда, но...
И дальше: Ленин – великая фигура в политике, как бы к нему ни относиться...
Я: Согласен и даже больше, величайшая фигура. А вообще есть две фигуры в русской истории, родившиеся в XIX веке и оказавшие на мир самое мощное, хотя и противоположное влияние, – Ленин и Достоевский. История подстроила нам сюрприз: 1870 год – год рождения Ленина, год начала написания романа «Бесы», самого ненавистного для Ульянова произведения...
Две трети времени, конечно, проговорил он. Я несколько раз очень мягко перебивал его, с извинениями: а у меня маленький вопрос (о Короленко, об Эстонии, о НЭПе, о морали и политике)... Соглашался, но... опять-таки не замечая вопиющего противоречия между этим согласием и своим «но».
ФОТО 113
Все время «заводило» его на Ельцина.
3–4 октября для меня был решающий момент...
Я: А если бы они взяли верх? Я не знаю ответа, то, что нельзя было расстреливать, – аксиома, была возможность компромисса, но Руцкой, призывавший молодежь штурмовать Кремль… (ср. Гитлер).
Он: Но к утру они были уже обезврежены и возможность компромисса оставалась. Стрелять было нельзя...
Вспомнили 1985-й, его доклад 9 мая (при упоминании – в ряду других – Сталина была овация).
Мой вопрос о Солженицыне, об «Архипелаге ГУЛАГ», когда прочел впервые? Оказалось: «Когда стал генсеком, мне дали».
– Неужели до этого не читали?
– Нет...
Ничего себе! ГЛАВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ – не давали, не читал. А чтоб прочесть безостановочно и хотя бы механически, нужно – я посчитал, – нужно месяц, полтора... Ну, понятно, где у них найдется для этого время... Это – просто прочитать, а чтобы пережить, а чтобы запало, а чтобы носить АРХИПЕЛАГ как компас, – какое наивное прекраснодушие (с моей стороны) на это рассчитывать...
22 июля
Стукнуло мне – 65.
По-видимому, через все тернии, заблуждения, самообман я все-таки выхожу на какой-то главный путь.
Этот путь – возвращение к самому себе, к людям, к Богу. Ложный путь – от самого себя, от людей, от Бога. Наверное, возрождение мое во многом началось с мысли об эволюции художника, об эволюции мыслителя, об эволюции политика.
Итак, я выхожу, кажется, в миллиардный раз на ту же самую дорогу, по которой суждено следовать каждому человеку от мгновения его рождения, может быть, и зачатия, до последней секунды его жизни, а именно: возвращение блудного сына.
Вся Библия – в этом, весь Достоевский, весь Толстой.
3 августа
Россия – как человек, отдельный человек, потерпевший поражение...
Как выпутываться?
Искать причины в себе. Выкарабкиваться, а не вопить всем остальным, что я всех вас лучше и всем вам укажу дорогу к счастью.
Говорят: у нас «дикий рынок». Да. Только у нас еще и дикий рынок идей, полемики...
Достоевский: у России – «две родины»: Запад и Восток.
Во-первых, это гениальное преувеличение гениального человека, который всегда меряет на свой аршин.
У кого? У нас – две родины?
А у науки? А у культуры? Сколько родин у них?
Загоняем себя в тупик абсолютной якобы неповторимости нашей индивидуальности (личной, племенной, национальной, религиозной, социально-политической, мировоззренческой).
Русский человек – то Обломов, то Рахметов: то на диване, то на гвоздях.
17 сентября
Творец и его создание.
Странно: бывает то, что названо «маленькими радостями», бывают, уж если продолжать, «средние радости», но... бывает озарение...
Сейчас может быть такое? Может.
Несравнимость «героя» и создателя.
Все, почти все знают Дон Кихота, все, почти все помнят Гамлета, но почти никто не помнит и меньше всего интересуется Сервантесом и Шекспиром. Но ведь тут-то и вся загадка, вся тайна. Не Дон Кихот родил Сервантеса, не Гамлет родил Шекспира. Наоборот ведь! В этом-то и тайна.
Эта мысль обожгла меня лет 20–30 назад, полтора года назад я высказал ее в какой-то телепередаче. Мало кто заметил. И вот снова эта мысль меня сверлит.
Ну не мог Достоевский не знать, не мог не думать, не одухотвориться простым знанием, что Сервантес, покалеченный, продан был на долгие годы в рабы – и что же? О чем он там, в рабстве. думал? О чем размышлял, чувствуя себя создателем будущего «Дон Кихота»?
Вот так же – не мог не думать, не чувствовать Достоевский… Он и был таким Сервантесом, покалеченным и безнадежным.
Достоевский – Сервантес... Князь Мышкин – Дон Кихот...
И все же тут какое-то противоречие: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»
Получается, что «творение» выше «творца».
Не так.
Не так «по определению».
Не было Дон Кихота – был морской калека, наемник Сервантес, создавший Дон Кихота.
Не было князя Мышкина, был калека сухопутный – Достоевский, создавший князя Мышкина.
Но Дон Кихот (идеал, мечта творца) спас самого творца, спас Сервантеса, а князь Мышкин (тоже идеал, мечта) спас Достоевского.
И у Анны Андреевны тот же вопль, мольба, обращенная к своей поэме:
Спаси меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму.
А вот Алла Рождественская (Киреева) подарила мне только что книгу последних стихов Роберта. И там:
Помогите мне, стихи!
<...>
В этот день и в этот час
я –
не верующий в Бога –
помощи прошу у вас.
Помогите мне,
стихи…
<...>
Помогите мне
остаться
до конца
самим собой.
––––––-–
Да, Микеланджело, Гойя, Достоевский... Все это для меня навсегда неотторжимо (почему – другой вопрос)...
Ну, почему так случилось, что однажды на выставке в нашем московском Эрмитаже – Пушкинском музее (никогда об этом не забуду) – я вдруг «прилип» к портрету «Неизвестного» Эль Греко (не во времени дело, а именно в неотвязчивости, он меня просто не отпускал)? Подошел ко мне какой-то человек, странный, вовсе вроде бы не моего круга, и сказал, сам ошеломившись: «Боже, как вы похожи». При этом присутствовал Элем Климов, который был еще больше поражен, чем я.
Так вот: почему – на самом деле – этот «Неизвестный» мне действительно роднее всех моих соплеменников? Микеланджело, Гойя, Достоевский – почему? Почему я – так остро и навсегда – почувствовал и понял: он – это я, я – это он?..
21 октября
Достоевский: на каком расстоянии (в пространстве – кто вычислил?) начинается и на каком кончается – совесть (со-весть)?
Осмелюсь добавить: на каком времени – кто вычислил? – начинается, а на каком кончается – совесть (со-весть)?
Метр? Минута?
А если два метра? А если две минуты? А если – тысяча, сто тысяч километров?
А если десять, сто, тысяча веков?
Религия и искусство уничтожают пространство и времена, делают нас всех единосущными и в пространстве, и во времени.
Система не может быть понята изнутри.
Только извне.
Из надсистемы.
Нужен инопланетянин.
Нужна «точка зрения» оттуда, извне.
2 ноября
Кажется, я попадаю в собственную ловушку, когда методология превращается в методику. Думал, что открыл, откопал себе выход, а на самом деле открыл западню...
Открытие всегда угрожает «закрытием». Мировоззрение превращается в методологию, методология – в методику… Методика – крайне важно, конечно, но чудовищно скучно и непродуктивно.
Впрочем, не совсем прав: именно методики-то («скучной» и «непродуктивной») нам, русским, подчас и не хватает. Недаром из деятельных литературных героев только один чеховский Лопахин имеет русскую фамилию, а другие – то немец Штольц, то гоголевский Костанжогло... Хотя и здесь не прав: есть еще один… – никем до сих пор не понятый – Разумихин у Достоевского. Очень надежный человек в русской литературе, а стало быть, в русской жизни. Никто не помнит, что на самом деле его всамделишная фамилия (которую открыл и которой, вероятно, испугался сам Достоевский) – Вразумихин. Никто, даже Порфирий Петрович, не понимает Раскольникова так глубоко и нутряно, как Разумихин.
Но все-таки есть западня: как только открытие, искреннее, сердечное и умственное, «затвердевает», оно тут же превращается сначала в методологию и сразу почти – в «методику»... А тут уж и работать не надо, трудиться не надо: ответ заранее известен, и просто нужно все – на самом деле неизвестное тебе – к этому ответу подогнать.
На этом построено почти все, насколько я знаю по личному общению и по чтению, не только западное, но и наше так называемое литературоведение: берешь две-три категории из Бахтина – и подгоняешь под них... Что? Жизнь подгоняешь!
Еrgо: литературоведение большей частью двойное убийство – и живой литературы, и самой жизни.
Снова перечитываю Достоевского: о «выделке» художественного произведения (в письме Майкову); «поэт» – «художник» (запись в черновиках к «Подростку» об этом же), и о выделке, о самовыделке человека.
Жизнь человека как художественное произведение.
Жизнь народа, жизнь всего человечества... А ведь человечество – художественное произведение Творца, Бога.
Конечно, из этого можно сделать и пародию: взять какого-нибудь мерзавца, человека-мерзавца, народ-мерзавец или даже вообразить все человечество как мерзавца... Вот вам «художественное произведение».
И что тогда? Еще один Всемирный потоп учинить, что ли? Всемирный потоп – это ведь что? Сожжение, точнее, утопление, уничтожение «черновиков» Божьего дела! Сколько оставил Он божьих тварей «набело»?
К сравнению Творца жизни и Художника, религии и искусства, богословия и искусствоведения.
Из последней, 22-й главы Апокалипсиса.
Подзаголовок: «Последнее предостережение...»
«18. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей.
19. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимает Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей».
Но ведь все это можно отнести и к книгам Достоевского, ко всей мировой литературе.
Какая поэтическая, смысловая, контрапунктная, музыкальная «игра слов»:
если кто приложит – на того наложит
и если кто отнимает – у того отнимает Бог.
«...он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (К евреям. 11; 10).
Бог – как художник!
Жизнь – как художественное произведение Творца!
Ср. еще:
«...не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества...» Отказ человеку в художественном даре как наказание за грех его!
Художник познает Бога.
Бог познает, признает человека как художника. Художник – не только как «профессионал», но и просто как человек: в каждом человеке есть художник.
«Найти человека в человеке» (Достоевский) еще и значит: найти в человеке художника.
Убить в себе художника – величайший грех.
Убить в себе человека – тоже.
И наказание за это – лишение художественного дара.
«Что задерживает пришествие Господа». (Второе послание к Фессалоникийцам Святого Апостола Павла. 2; 1).
«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели...» (Там же. 2; 3).
Но не об этом же и Достоевский: «Бытие есть только тогда, когда есть небытие. Бытие только тогда и начинается, когда ему грозит небытие».
«Сократить временные сроки» – о Спасителе.
А у Достоевского не то же ли самое – в связи с тайной Пушкина (не умри он так рано, сократил бы времена и сроки)?
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь», (Первое послание Святого Апостола Иоанна Богослова. 4; 8).
Познание = любовь.
Любовь = познание.
Ад = неспособность любить.
Рай = способность любить.
Неужто случайно?
Пушкин, перед смертью, – об истории для детей...
Достоевский в конце жизни – посещение приютов, письма студентам, невероятно ускоряющиеся, увеличивающиеся количества выступлений перед молодежью. Речь Алеши у Илюшиного камня в последнем его романе («Братья Карамазовы»).
То же Лев Толстой.
И я – маленький – почему-то испытываю (точнее, понимаю – из-за любви к ним) те же чувства и мысли.
Христос – к кому обращается? К детям земли.
Надо же понять, прочувствовать, пережить, вжиться.
Почему гении умеют играть на струнах нашей души, простых смертных, т. е. почему мы вдруг оказываемся им – таким недостижимым, непостижимым,– оказываемся вдруг конгениальны им?
Да именно потому, что они и сконцентрировали в себе все-все предыдущее. Были современниками самих себя, и ранних, и поздних, и нынешних, т. е. и выразили общее, что присуще человеку.
1996
11 февраля 1996
Сегодня на переделкинском кладбище похоронили Лидию Корнеевну Чуковскую.
Оказалось, что я был едва ли не последний, кто с ней незадолго до ее смерти разговаривал. А ведь идешь к ней – страх (не трусость! хотя иногда и трусость) с ней увидеться, страх с ней услышаться. Всегда экзамен – экзамен на совесть, на честь, на ум, на слух.
Героизм этой женщины привел к гениальности. По красоте своей души, по высоте своего духа, по красивой мощности своей воли она навсегда останется рядом и наравне с лучшими людьми, спасающими нас,– с Ахматовой, Сахаровым, Солженицыным... При ней, как и при А.Д.С. и при А.И.С. физически невозможно было говорить нечестно, несовестливо, неумно. Лучше уж помолчать.
Она посвятила себя другим людям, отдавала им себя целиком. Началось все с того, что уже в детстве маленькая Лида отдавала отцу много сил и времени: вечерами читала ему книги, чтобы он заснул. И потом всю жизнь она верно служила своим близким, и прежде всего, конечно, Анне Андреевне Ахматовой. Эккерман при Ахматовой? Неточно: в сущности своей она сама была поэтом, конечно, поэтом.
ФОТО 089
Однажды, кажется осенью 1982-го, уходя от нее, услышал и запомнил навсегда: «Я писатель – без читателя»... Много думал над этими горькими словами. Потом написал ей письмо.
«30.03.83.
Дорогая Лидия Корнеевна!
Уже то, чтo в те времена свершили Ахматова своими стихами и Вы – «Записками», – это, конечно, великий и, наверное, беспримерный подвиг, в самом первозданном – русском – смысле этого слова.
Поблагодарим гётевского Эккермана, толстовского Гусева или пушкинского Пущина, но чтоб такое, чтo сделали Вы – вместе! – такого еще не бывало. Две женщины оказались мужественнее – в своих чувствах, мыслях, в своей совести и работе, в Слове и поступках, – мужественнее скольких тысяч «мужей», две «рафинированные интеллигентки» – надежнее самых «твердокаменных» и «стальных».
В числе других (оказывается, их было не так уж мало) Вы спасали и спасли честь и совесть нашего народа, честь и совесть русской интеллигенции, русской литературы, честь, совесть и достоинство русского Слова – лучшего, может быть, чтo у нас есть, Слова, которое было и осталось – делом.
Откуда это? Почему? Я не нахожу пока другого ответа, кроме: это – от культуры, от многовековой культуры (нашей и мировой), ставшей Вашей и Ахматовой второй натурой, это – от верности Пушкину.
Не случайна, конечно, – я не знаю, осознанна ли? – ваша гениальная конспирация: «Я попросила ее почитать мне Пушкина»... Пушкин = »Реквием»! И какое дело до того, что кому-то и это «не нравится» («Реквием» и «Записки»)? Полуживые, искалеченные, окровавленные люди выстояли сами, спасали и спасли общенародную культуру, совесть, и... они же «всех виноватей»! И кто обвинители? Те, кого хватают инфаркты не от бед и горя своего народа, а лишь от страха не угодить начальству, потерять место или от ожирения...
Успеете наахаться
И воя, и кляня.
Я научу шарахаться
Вас, смелых, от меня...
Вы обе научили. Вас обеих шарахаются. И то, что вы обе сделали, – это и есть небывалый РЕКВИЕМ и, одновременно, ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ, написанные буквально под топором.
Я знаю, Вы скажете: «Преувеличиваете...» Но я в этом убежден и благодарю судьбу за то, что она, «в порядке чуда», привела меня к Вам.
Ошибка той старухи, которая спутала Вас с Ахматовой, не так уж безосновательна.
Стихи, сочиненные втайне, произносимые шепотом, записанные на бумажке, которая тут же – после запоминания – сжигается, – я не знаю страницы в истории литературы более страшной, трагической и прекрасной. А потом еще – воскрешение по словам отдельным, по строкам. А беспомощно-требовательное ахматовское – «Вспомните, Лидия Корнеевна!..»
Страшно подумать: не будь всего этого, не сохранись все это...
Если б у меня был поэтический или музыкальный дар, как мне хотелось бы написать о той, которая создала «Реквием», и о тех одиннадцати, которым она читала его и которые остались ей верны и спасли и ее, и его. Но это сделают и без меня, – я абсолютно уверен. Нам вообще, я убежден, нужна книга не только о тогдашних преступлениях, но и о подвигах тогдашних.
Мне всегда больно, когда я вспоминаю Ваши слова: «Я писатель без читателей», сказанные мне с год назад. Но Вы же знаете, что это и так, и не так. Надеялись ли Вы пережить Сталина? Переписать «Записки»? Увидеть их изданными?.. Сейчас у Вас сотни (много – тысяча) читателей. Но дело-то главное – сделано! Будут, будут они изданы и у нас. Вы, может быть, сами не представляете, как Вы уже сейчас помогли и помогаете людям. Ваша книга сама выращивает братьев.
Поразительна Ваша беспощадность к себе и к любимому «предмету». Вы – из редчайших людей, которые умеют не лгать, точнее – не умеют лгать (а еще, наверное, точнее – выучились не лгать).
Мысли Ахматовой, сохраненные Вами (все, а для меня особенно – о Достоевском и Толстом, о том, что для Фигнер не было поэзии, о «категории времени», об «апокалипсической грубости», о небывалости пережитого нами), – драгоценны и невосполнимы.
Да, я давно хотел рассказать Вам один случай и задать один вопрос. В «Поэме без героя» можно услышать ВСЮ АХМАТОВУ, как в «Сне смешного человека» – всего Достоевского. Здесь – какая-то небывалая музыкальность (без которой это было бы и невозможно). То и другое – как бы финал грандиозной симфонии. Слышал я в «Поэме» и «Реквием», но опять-таки – музыкально. Но вот однажды ночью, перечитывая ее в сотый раз по нашему «синему» изданию, я вдруг обомлел: «В печной трубе воет ветер, и в этом вое можно угадать очень глубоко и очень умело спрятанные ОБРЫВКИ РЕКВИЕМА...» Я тут же позвонил «Наташе хорошей» (Н.И.Ильиной), она была тоже поражена и призналась, что не замечала. Так гениально-пушкински обойти цензуру! «Я очень глубоко (!) и очень умело (!) спрятала “Реквием” – ищите!..» Замечено ли это?
Дорогая Лидия Корнеевна! Спасибо Вам бесконечное, и – держитесь, держитесь, держитесь. Работы Вам и здоровья!»
Р. S. В ответном письме Лидия Корнеевна, конечно, очень удивилась тому, что я очень удивился очевидному (насчет «Реквиема» в «Поэме без героя»).
Мне почему-то хочется привести здесь отрывок из стихотворения Н. Коржавина «Памяти Марины Цветаевой»:
Не кормились – писали.
Не о муках – о деле.
Не спасались – спасали,
Как могли и умели.
Не себя возносили
И не горький свой опыт –
Были болью России
О закате Европы.
Не себя возносили,
Хоть открыли немало, –
Были знаньем России!..
А Россия – не знала.
А Россия мечтала
И вокруг не глядела,
А Россия считала:
Это плевое дело.
Шла в штыки, бедовала –
Как играла в игрушки.
...И опять открывала,
Что на свете был Пушкин.
Реакция на бесчестность, недобросовестность, несправедливость, подлость и на власть у Л.К. всегда была молниеносной, точной и твердой.
Человек чести, даже прежде чем совести. И человек справедливости.
Она не допускала неправильного письма и неточно поставленную запятую считала ошибкой и даже преступлением. Для нее язык русский и был радостным полем и ума, и чести, и совести. Превратить орфографию, грамматику, синтаксис в мерило нравственности – право, это никому еще, кроме нее, не удавалось. Абсолютная влюбленность, нет – любовь, навсегдашняя, к языку русскому… язык для нее был хранителем, дитем, которого нельзя предать.
…Вдруг вспомнился забавный рассказ Люши: весной 1979 г. Л.К. работала над подготовкой к изданию книги Ахматовой, а Люша ей помогала. Узнала, что в Доме ученых объявлена лекция на тему: «Библиотека Ахматовой». Решила пойти. В то время Л.К. была еще под запретом и имя ее не произносилось публично.
Лектор, рассказывая о взглядах Ахматовой, все время цитировал книгу «Памяти Ахматовой» Л.К. Чуковской, не упоминая автора и давая даже свои комментарии, порой прямо противоположные цитируемому тексту. (Например, Ахматова говорила, что она не любит Есенина. Лектор тут же поправлял: конечно, А.А.А. высоко ценила Есенина и т.д.) Пока лектор говорил, Люша не решилась встать и назвать имя автора цитируемых воспоминаний – Лидию Чуковскую, выявив тем самым безнравственность происходившего. Но в перерыве подошла к лектору и сказала, что надо либо назвать автора цитируемой работы, либо не использовать этой книги. Лектор первым делом спросил, кто она такая, тут же добавив: имя Л.К. Чуковской упоминать нельзя. К удивлению Люши, на нее набросились и слушатели, в основном немолодые слушательницы, которые сочли, что им мешают таким образом узнать, что думала Ахматова.
Придя домой, Люша рассказала маме, что произошло. Ее реакция была немедленной и жесткой: «Почему ты не встала и не спросила из зала сразу, кто автор текстов, если ты их узнала? Нельзя же так трусить!»
…Кто-то сказал на поминках: в России культура хранится и передается в семье. Такую культурную традицию несла семья Чуковских.
Лидия Корнеевна была одна из тех уже немногих, кто остался в России истинным читателем и ценителем книг. Когда она уже не могла читать даже через лупу, она оставалась с книгой. Ей читала Фина каждый день, и она заказывала книгу на завтра. Последнее, что она собиралась читать – последнюю книгу Солженицына.
Любимым словом Л.К.Ч. было – память. «…В нашей стране противостоит лжи и фальсификации стойкая память, неизвестно кем хранимая, неизвестно на чем держащаяся, но упорная в своей кротовой работе. <...> Память – драгоценное сокровище человека, без нее не может быть ни совести, ни чести, ни работы ума. Большой поэт – сам воплощенная память» (из статьи 1968 г.).
Она сама – воплощение памяти. Нечистая совесть – это (маскируется!) плохая память. У нее была самая хорошая, самая точная память на Руси, память-совесть.
Однажды, лет 10 назад, здесь, в Переделкине, я пришел к ней, и она по-детски пожаловалась мне: когда я хожу гулять, я даю себе задание («задание!» – она всю жизнь до дня, до часа, до минуты давала, задавала себе задания и всегда их выполняла, здесь она вся, монашески-рыцарская, с обетами, которые ни разу не были нарушены). Так вот она сказала:»Сегодня я дала себе задание – вспомнить «Евгения Онегина». И – это ужас!– я никак не могла вспомнить две строфы». В этом она вся. Память.
Вот и нашел ключевое слово для некролога.
ПАМЯТЬ КАК СОВЕСТЬ
Самая главная беда, самая главная боль – даже не в том, что Лидия Корнеевна Чуковская умерла (чуть-чуть не дожив до 90,– родилась в 1907-м), а в том, что очень мало людей, которые знают и понимают, КТО умер, очень мало и в народе, и в верхах (а там вообще, наверное, нет никого).
На поминках Наталия Дмитриевна Солженицына сказала: «Мы осиротели». К великому несчастью нашему, слова эти относятся (пока) лишь к тем, кто знал ее лично.
По чистоте своей души, по высоте своего духа, по несгибаемости воли своей Лидия Корнеевна навсегда останется рядом – и наравне – с Ахматовой, Сахаровым, Солженицыным. Она была им всем другом, надежным и самоотверженным. Они были ее друзьями – какая награда может быть выше?
Едва ли не главным определением русскости является – «беспорядочность». Лидия Корнеевна, как опять-таки Ахматова, Сахаров, Солженицын – была воплощением спасительного порядка, спасительной порядочности, самоспасительной дисциплины.
Достоевский повторял: у нас святых – полно, а просто порядочных – нет... Вот в ней и был кристалл порядка, порядочности, кристалл дисциплины – и в уме, и в чести, и в совести. Но так и неясно: кристаллики ли эти преобразуют наш русский хаос или, напротив, хаос этот прожует, не заметив, и выплюнет эти кристаллики.
С советской властью, с коммунизмом у Лидии Корнеевны (по наследству от отца, по наследству от всей великой литературы нашей) были не поверхностные социально-политические, идеологические разногласия. Нет – был глубочайший, непримиримый стилистический, языковой антагонизм. Изнасилование русского языка она воспринимала именно как изнасилование народа. «Язык – народ», – говорил Достоевский. И он же писал в «Братьях Карамазовых»: «Бог с дьяволом борются, а поле битвы – душа человеческая...» Для нее таким полем был русский язык. Превратить орфографию, грамматику, синтаксис в мерило нравственности, в критерий духовности – это никому еще, кроме нее, кажется, никогда не удавалось. Язык для нее – совесть народа.
Все мы боялись государственной цензуры и – обманывали ее, а все равно оставался страх, страх, тебя унижающий.
Перед нею тоже был страх, но страх, тебя возвышающий: она была абсолютно нелицеприятным, неподкупным цензором совести.
Всего сейчас не скажешь, что знаешь, что помнишь. Есть, слава Богу, люди, которые знают и помнят больше, чем я. Уверен: будет книга памяти о ней, о могучем роде Чуковских.
Закончу стихами Лидии Корнеевны, написанными 43 года назад, в январе 1953 г.:
...Опять чужая слава
Стучит в окно и манит на простор.
И затевает важный, величавый,
А в сущности базарный разговор.
Мне с вашей славой не пристало знаться.
Ее замашки мне не по нутру.
Мне б на твое молчанье отозваться,
Мой дальний брат, мой неизвестный друг.
Величественных строек коммунизма
Строитель жалкий, отщепенец, раб,
Тобою всласть натешилась отчизна,
Мой дальний друг, мой неизвестный брат!
Я для тебя вынашиваю слово.
День ото дня седее голова.
Губами шевелю – и снова, снова
Жгут губы мне, не прозвучав, слова.
––––
28 февраля
Похоронили Анну Михайловну Ларину (Бухарину).
ФОТО 087 И 086
Пожалуй, никогда еще в жизни моей не сходились в одной точке любимые и ненавистные мною линии жизни лично моей и любимые и ненавистные линии жизни других. Такого переплета, такой перемеси, такого родства и такого отторжения – и все это на шести-восьмичасовом пространстве – в моей жизни никогда не было. Если б кто-нибудь такое придумал – никто бы не поверил. Абсолютно безумный день, для описания которого нужен даже не А.И.С. (Солженицын), а Фазиль (Икандер) или кто-то еще, кого мы пока и не знаем.
Все, все, и личностное, и эпохальное, – все совместилось в одной точке.
Панихида. Перед нею... Похороны. Кладбище. Абсолютно голубое небо. Солнце и тут же напротив луна. Поминки. Речи.
Надя (дочь Лариной и Федора Дмитриевича Фадеева, с которым Анна Михайловна познакомилась в лагере) – против меня, а рядом какая-то невероятной энергии женщина, которая вдруг резко обращается ко мне:
– Вы Юрий Карякин? Вы знаете, как я вас любила, как за вами следила? Но после того, что вы сказали о Ленине... Вы, наверное, не знаете, кто я такая? Я – старшая дочь Николая Ивановича. Светлана Николаевна Гурвич (Бухарина).
Оторопел, но проглотил.
Юра (Ларин) уже за столом вспомнил забавную историю, и все мы оказались в каком-то плюсквамперфектном времени.
У мамы была хорошая знакомая из прошлой жизни, старая большевичка Анна Львовна, вдова Давида Борисовича Рязанова (участник революционного движения, директор Института Маркса и Энгельса – ИМЭЛ, репрессирован «за связь с заграничным центром меньшевиков», посмертно реабилитирован). Она получала в спецраспределителе продуктовые заказы. Как-то звонит Анне Михайловне и предлагает приехать к ней за продуктами. Мама в ответ: «У меня разболелся зуб, надо идти к врачу». – «А ты выпей чего-нибудь покрепче, как Верочка. У нее вечно болели зубы». – «Какая Верочка?» – «Ну, Верочка Засулич».
А потом начали вразброд вспоминать: то Плеханова, то Лафарга, то как Анна Михайловна однажды повстречалась с Лениным.
Добрым словом помянули Бориса Израилевича Гусмана, который приютил нескольких детей арестованных старых большевиков, в том числе и Юру Бухарина. Юрочка после ареста обоих родителей оказался в каком-то спецприемнике и чуть не умер там от голода. Но Гусман разыскал его и забрал к себе домой. Начальник строительного надзора г. Москвы, он строил мавзолей Ленина, а сын его сидел на Колыме. В 1946-м арестовали и сослали и самого Гусмана. Юра попал в детдом под Сталинградом.
...Кто-то на панихиде сказал: с Бухариным умерла альтернатива Сталину. Я взорвался: альтернатива вовсе не в экономике, политике, социологии. Альтернатива – в явленной нам сегодня духовности и нравственности. Сталины и Берии – с одной стороны, Бухарины – с другой. Что от тех осталось, что продолжается от Бухарина... Я посмотрел на Юру. Художник, и какой! А в те времена даже художники (ведь Бухарин неплохо живописал) мечтали и одновременно способствовали или прямо соучаствовали – через политику – в расстрелах. В то самое время (всегдашнее время), когда одной из главных профессий политиков было – расстреливать, в том числе и художников. Когда я смотрю на весь ваш остаточный род присутствующий, я думаю – как я счастлив за вас, что вы есть, и за себя, что я свидетель этого.
Удивительно! Абсолютно разные люди – Анна Ахматова, Лидия Чуковская и Анна Ларина (Бухарина). Смерть. Когда-нибудь на них и на нас будут смотреть будущие поколения... Надеюсь, что всех их поймут. Надеюсь, поймут точно. Идеология при смерти испаряется, как и спустя века. Что остается? Остается только духовное мужество. И в этом эти три разные женщины равны друг другу. Потому что на душу этих женщин выпали такие тяжести и пытки. И как они их преодолели! Они люди совершенно разных идеологий. А что их роднит? Роднит их абсолютный нравственный слух, доброта. И каждый из нас, вспоминая о них, почему-то не может не сказать только одно – солнечность. Одолев все, они остались солнечными.
Главная ошибка Бухарина в том, что он, мягкий по характеру человек (это лучшее, что можно сказать о человеке, пошел в политику, но слава Богу, что сын его Юра Бухарин стал художником.
22 марта
Надо делать второе издание книги о Достоевском. Материала – куча. Ира все собрала. Ну, хоть вот это…
Любовь-ненависть Достоевского к Белинскому. Что тут? Смена абсолютно безудержных похвал на абсолютно безудержную хулу? Да, да, да... Но вот в чем дело. Все это – категории вне-эстетические, вне-художественные, то слишком «политические», то слишком личностные.
Но надо же понять Достоевского как художника. И вот тут у меня возникает гипотеза, которую невероятно трудно подтвердить (хотя я думаю, что столь же невероятно и трудно опровергнуть).
Не кто иной, как Белинский, сказал ему, Достоевскому: не пишите драм, драматурга из вас, Шекспира не получится...
А начинал-то Достоевский (начало юношеское – всегда или почти всегда предчувствие своей судьбы) с состязания не с кем иным, как с Пушкиным-драматургом и Шиллером-драматургом. И не потому ли он возненавидел Белинского, что тот его «сбил с дороги», не столько с дороги социальной, с дороги тщеславия, нет, с дороги «профессионально-профетической», с дороги истинного призвания его, Достоевского, как драматурга?
И вся драматургия Достоевского растворилась в романах, но не исчезла. Спаслась, преобразовавшись в прозе.
Великий драматург Достоевский «ушел в подполье». Я хотел бы конкретизировать эту фразу.
Драма – это если не прежде всего, то больше всего – ремарки.
Перечитайте всего Достоевского с этой точки зрения.
Ремарки – это:
1) Знак сжатости или растягивания времени (кто замечал, кто исследовал Достоевского под таким углом зрения?). Вот пример: молчание между ними (Свидригайлов – Раскольников) продолжалось десять минут.
2) Как кто что сказал... «Пусть потрудятся сами читатели...» В сущности, эта фраза значит: превращение читателя, читающего книгу, в зрителя, смотрящего драму.
Все романы Достоевского и все повести, рассказы внутренне заряжены драматургией, которая еще только-только начинает взрываться, т. е. осуществляться, проявляться.
Вдумаемся: кто отец современной, за пять последних веков, прозы – кто? Конечно, Шекспир. Что сие значит? А значит: проза современная родилась из драматургии, из слова театрального, звучащего на людях и к людям – слушающим, а не только смотрящим – обращенного (это мы сейчас читаем драмы Шекспира, а те, счастливцы английские, их слышали, слушали).
Проза вообще родилась из поэзии – звучащей, произносимой, слушаемой (Данте).
Превращение классической прозы в драматургию (звучащее слово, через новейшую технологию, кино, телевидение) выявляет свою природу. И дело вовсе не в том, чтобы сетовать на эту неумолимую тенденцию, а в том, как ее достойно осуществлять. Она неизбежна. Это – второе пришествие Слова.
––––––
22 июня.
Давно сверлит меня эта мысль: проблема понимания, проблема понятливости.
Человек пишет для того, чтобы быть понятым. Это самообман, что пишешь для себя. Даже если и в самом деле пишешь для себя (дневник, например, чтобы уяснить себя, вернувшись к нему позже, а потом можно и сжечь), то все равно – прямо или косвенно, так или иначе – ты разговариваешь, разговариваешь с другим, с другим человеком вне тебя или с другим «Я» в тебе, а главное – наивысшее «Я», соединяющее в себе все «Я» на свете, прошлые и будущие,– разговариваешь с Богом. (Высшая форма разговора – молитва-исповедь.)
Всегда – диалог. А монолог? А монолога, к вашему сведению, никогда не было и не может быть. (!)
Не было, нет и не может быть – именно по природе самого языка, по природе человечьего слова.
«Монолог» – это всего лишь условно-литературное обозначение звучащей или незвучащей речи одного человека, разговаривающего с другим, с другими, с Богом.
Кстати, отсюда пересмотр всей концепции М. М. Бахтина (я давно подозревал это) – монолога нет вообще! Только сейчас, кажется, начинаю догадываться, в чем тут дело: не было никогда «монологического романа». Полифонический роман Достоевского лишь обнажил тайну, тайну небытия монолога...
Слово и родилось из непреодолимой и спасительной потребности в другом. Из потребности дать о себе весть. Слово родилось как совесть. Или: совесть и родила слово.
Монолог (ср. «монологист», монологичный человек, который только говорит и не слушает) – это скрытая, скрывающаяся от самой себя, боящаяся самое себя, заговаривающая самое себя и других совесть.
Совсем просто, вроде даже обыденно: чем более говорлив человек, чем более монологичен, болтлив, тем очевиднее, что что-то там с совестью – сильнее беспорядок.
«Раскусить» такой монолог как бегство от совести – задача психологии и искусства (литературы). «Раскусить» как скрытую жажду совести.
Такой монолог только кажется бесконечным убеганием от точки совести. На самом деле человек привязан к этой точке, и нить, ветвь, цепь, связующую его с этой точкой, как бы он ни старался, – порвать, обрубить, разорвать ее нельзя. Человеку только кажется, что он убегает от этой точки (и чем дальше, тем лучше, надежнее), а на самом деле он на привязи; как бы ни была длинна эта веревка, он не убегает от точки совести, а лишь вращается вокруг нее. И чем дальше он, такой человек, хочет убежать от, чем скорее, быстрее убежать, тем ближе он к ней, к этой точке, оказывается, тем скорее, быстрее сокращается его «привязь», и в конце концов он возвращается к этой точке, падает в нее – и погибает (Свидригайлов, Ставрогин, Смердяков даже) или спасается (Раскольников, Иван Карамазов, Аркадий из «Подростка»). Представить себе будущего Ивана Карамазова, после безумия, в которое он убежал от совести.
25 июня
Вернусь к теме: понятность и понятливость. Если нет слова в никуда, слова, ни к кому не обращенного, если слово обязательно к кому-нибудь обращено (к своему «я», к другим «я», к большому «Я», к Богу), то все это и называется совестью. Оно, слово это, должно озаботиться тем, чтобы быть понятым. Тут есть одно «но»: слово устное и письменное, слово мысленное и произнесенное, тем более написанное. Я говорю сейчас о слове письменном, о литературе. К кому обращено литературное слово? «Адресат», «адресаты» все те же: сам я, другие, Бог. Все те же, хотя каждый из них реализуется, пишется, направляется по-разному, хотя «доля» разговора, «доля» диалога с самим собой, с другими и с Богом, конечно, всякий раз разная и реализуется по-разному.
И все же литература – преимущественно (внешне на девяносто, а может быть, и на все сто процентов) письменный разговор именно с другими.
Однако отсюда вовсе не следует, что «доля» разговора с собой и с Богом должна остаться вне литературоведения.
Я бы даже сказал, напротив. Конечной целью литературоведа и является нахождение, открытие именно этой «доли», этих «долей» (разговор с собой и с Богом), но лишь одним путем – через анализ разговора с другими.
(Совершенно неожиданно для самого себя вдруг вынырнула старая любимая мысль, вынырнула в совершенно неожиданной форме мысль о том, что меня интересуют не столько герои Достоевского, сколько он сам, его отношение к себе и к Богу. Но в том-то и дело, что эта главная цель недостижима без понимания героев.)
И опять возвращаюсь к проблеме понятности и понятливости. Тут целый клубок перепутанных нитей-мыслей.
1. »Элитарность» и «общедоступность», народность.
2. Не противопоставлять, не отождествлять. Движение гениев к «неслыханной простоте». (Особенно ярко, убедительно это видно у Пастернака, автора этих слов, у Толстого – от романов к притче, у Достоевского – своего рода борьба между трудом романным, так сказать, и писательским дневником.)
3. »Доступность» гениального произведения для простого смертного. Не побоюсь предельного обострения вопроса. Начать с грамоты. Знание букв, умение читать, связывать, сопоставлять прочитанное (а тут еще различие между прозой и поэзией). Такая вот аналогия. Такое вот сравнение – Резерфорд, Эйнштейн, Планк, Анри Пуанкаре... доступны первокласснику, десятикласснику, да и студенту даже? Может ли «арифметический» человек стать сразу «алгебраическим» человеком, «интегрально-дифференциальным» (единственное, что я помню из высшей математики,– то, что она, говорят, есть). Тут надо быть поосторожнее, тут есть какая-то грань, которую нельзя переходить, но которая не меняет существа дела, грань такая – нынче, кажется, малышей обучают математике прямо с алгебры... Но я не о методике...
В. И. Ульянов-Ленин: «...неграмотный человек вне политики». Ленин на самом деле имел в виду грамотное прочтение народонаселением большевистских приказов и грамотное их исполнение.
Итак, «доступны» ли гении для простого смертного? Каков тот минимум (грамотности, образованности, развития «слуха»), без которого нечего и говорить ни о какой доступности?..
Забегаю далеко-далеко вперед: как так получилось, что вместо прямого разговора с самим собой и с Богом, вместо прямого разговора с другими людьми человек – художник – писатель – перешел на разговор «обиняковый», «намёчный», на разговор с нами через героев?
Вдруг обескуражило. Привыкли: «В начале было Слово...» «Слово плоть бысть» (материализм, какой угодно, от Демокрита ли, Молешотта, Фейербаха или Энгельса, идет от «материи» – пощупать можно, увидеть, потрогать). «Материализм» означает, что инструмент появился раньше звука, раньше музыки...
«Бытие определяет сознание» = инструмент определяет музыку... Ну и ну! Орган появился раньше религии! Балалайка раньше частушек...
Итак, не могу понять, почему не было сказано: «В начале была музыка...» Пусть она была мычанием, но мучительным мычанием, ищущим и нашедшим наконец слово.
«Бытие определяет сознание...» Тоска. Ну, конечно, сознание. Но тут свои глубины, свои спектры, свои уровни, свои грани. Не слово определяет музыку, а музыка определяет слово, а еще точнее: музыка есть жажда слова. Не случайно, конечно, М. М. Бахтин сто раз оговаривается, что он вводит не категории, а категории-образы, когда говорит о полифоническом романе, о полифонии... Вероятно, он и стоял на этом пути противоречивого и плодоносного (нерасчлененного) единства музыки и слова. Вся тайна этого нерасчлененного единства – в чем? В звуке. Музыка (как я это раньше не понимал?) – стон радости, наслаждение, крик счастья, крик страха, крик об опасности – это и есть звук, сигнал, звуковой сигнал.
Музыка и есть первое слово, абсолютно не дифференцировавшееся внутри себя (нерасчлененное), совокупное, т. е. содержащее в себе абсолютно всё: все звуки, все фонемы, фонетики, грамматики, синтаксисы.
Не входит, не вмещается в наш «эвклидов разум». Бесконечен макрокосмос. Бесконечен микрокосмос. Первое понятнее, чем второе... Якобы, якобы понятнее... Но второе – еще непонятнее, чем первое. Макрокосмос... Кант. «Звездное небо над головой...» Бесконечность – «сверх»... Все увеличивается, а это виднее вроде.
Микрокосмос... Все наоборот (вроде бы). Все невидимей, и невидимей, и невидимей. И вдруг: Земля, Океан на Земле, горы, скалы, озера... Микрокосмос оказывается, также неисчерпаемыми и бесконечными – «вниз». И эта неисчерпаемость почему-то не уступает неисчерпаемости «вверх».
Макрокосмос, Вселенная бесконечно неисчерпаемы – точно так же... как и микрокосмос...
Тут-то, наверное, и главная загадка. Тут-то родство обоих. Что такое музыка – «Музыка»? Что такое слово – «Слово»?
Еrgо: музыка и есть первое слово. Слово... Ну не родилось же оно с Гутенбергом. Не родилось оно письменным. Криком боли, криком о помощи, криком радости родилось... Криком = звуком = музыкой.
Как радостно, счастливо видеть, когда ты только начал мысль, а другой уже догадался...
В этом, если угодно (ну конечно, это – мечта, мечта), и есть моя методология будущей моей книги о Достоевском...
Вести, вести, запутать, запутаться, подвести и отпрянуть и, наконец, подвести и оставить (читателя, чтоб сам догадался), а потом вернуться (а он уже сам догадался... как ему кажется!) и удивить, и удивиться самому, «завести» его так, чтобы он меня и обогнал...
Да, я ведь все начал, если честно говорить, с малюсенькой мысли (которая не отпускает меня уже лет тридцать) – о том, как же это так у Пушкина:
И не был убийцею создатель Ватикана...
Не побоюсь вот к этому свести вопрос. Ну, кто из читателей обязан знать, кто такой создатель Ватикана? Почему читатель обязан знать историю создания Ватикана? Историю споров о том, убивал ли – для наглядности – Микеланджело свою модель или нет?..
Ведь весь вопрос сводится к тому: о, читатель! Кто ты в самом-то деле – кто? Младенец, которого надо кормить грудью, кашкой из ложечки в рот, паразит, единственная самостоятельность которого – сосать любое тело, на котором живешь, к которому прилепился, или...
Христианство впервые разбудило в человечестве, в человеке личность. Она «наклевывалась» еще у поздних римлян, у стоиков – Сенека, Эпиктет, Аврелий…
Т. о., по моей модели, Христос – первый «писатель», который воззвал «читателя» к сотворчеству.
(Сейчас не побоюсь «нарушения стиля». Подхожу к самому страшному вопросу.)
Христос – «писатель»? Христос – музыкант, композитор... Он не писал. Он говорил. Только говорил. А его только слушали, слушали. Наконец (когда?), стали записывать. Христово слово – произнесенное, звучащее.
7–9 ноября
На днях (11–12 ноября) в Москве – международный конгресс «Достоевский и мировая культура». Обдумать выступление. Тема? Наверное, все-таки:
Есть четыре способа исследования, познания:
I. Когда неизвестно «дано» и неизвестен «ответ».
II. Когда известно «дано» и неизвестен «ответ».
III. Когда неизвестно «дано», зато известен «ответ».
IV. Когда известны и «дано», и «ответ».
Обычно мы имеем дело с тремя первыми задачами (особо: искусство, литература и наука): художник делает для себя неизвестными и «дано», и «ответ», и чем больше ему неизвестны то и другое, тем сильнее он нас поражает. Самый классический пример – тот же Достоевский: работа над «Преступлением и наказанием», над «Бесами», над «Подростком»... И, может быть, самый сильный пример – над «Идиотом»...
Ср.: А. И. Солженицын. «Красное колесо».
Когда в 1992 году я был у него в Вермонте, заметил ему не без некоторой опаски: «Достоевский никогда не знал «ответа», а вы здесь – знали... Отсюда: абсолютно неизбежна подгонка решений под ответ...»
Его ответ: «Вы сами не знаете, как правы. Я знал, что Россию не спасти, поэтому запустил Верховцева... в быт».
Но тот случай, который я хочу предложить вашему вниманию, абсолютно особый, четвертый: нам известны и «дано», и «ответ». Но мы... мы вопиюще не считаемся ни с тем, ни с другим...
Есть два главных факта, факта небывалых, чудовищных – каждый по-своему:
1. Человечество стало смертным (не только человек, но и человечество). При том, каким оно нам дано, при том, каким мы даны себе, человечество обречено, если оно не совершит подвига духовного спасения.
2. Но это-то и не осознается. Это-то и не доходит... Осознавалось, осознается только единицами (Леонардо, Ламарк, Достоевский...).
Но главное, самое главное «дано» и самый главный «ответ» давным-давно нам известны – по Апокалипсису.
Достоевский сумел это известное «дано» и этот известный «ответ» снова сделать неизвестными и решить – художественно – эти две взаимосвязанные задачи.
Только сейчас нас поражает, начинает обжигать его мысль-молния: «Бытие есть только тогда, когда ему грозит небытие, бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие».
Я почти не знаю людей (а политиков еще меньше, чем художников и ученых), которых беспрерывно сверлила бы эта мысль, которые ложились бы спать с нею, спали бы с нею и с нею бы просыпались...
Но пока мы это не осознаем, пока мы этим не обожжемся, пока не обуглимся – спасены не будем...
У всех, кого коснулась эта мысль, у всех, кого она обожгла, отныне есть только одна задача: отдать ее всем другим, заразить ею всех других...
Надо, чтобы человечество испугалось самого себя, чтобы вызвать в нем отвагу, отвагу спасения...
Мировоззрение, мироощущение истинное и начинается со встречи со смертью... Без этой встречи не может быть никакой нравственности вообще...
Мы упускаем – с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой – свой последний шанс: знаем свое «дано», знаем «ответ», к которому оно должно привести, если мы останемся прежними, и... остаемся прежними.
Почему это не доходит? (Я думаю о своем личном опыте, о нашем совместном опыте с Алесем Адамовичем.)
Почему не доходит?
Да просто нельзя ни на кого сваливать: это предусмотрено в «Братьях Карамазовых»:
«...и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, и не совершил бы его при свете твоем...»
Никто в этом не виноват, кроме нас самих, которым это стало известно...
Значит: мы не нашли еще настоящих слов или устали их повторять.
Христианство родилось как апокалипсис, как апокалипсическое мироощущение, мировоззрение.
Первохристиане жили в апокалипсисе. Жили в свете апокалипсиса, в свете последней книги Библии, последней главы Нового Завета.
Жили в свете конца, в свете финала, в свете эпилога...
Потом начали постепенно забывать. Особенно после эпохи Возрождения, во многом благодаря ей.
Схема.
Сначала Бог прямо разговаривал с людьми, пусть с избранными из них...
Потом – несколько опосредованно, но устно, через Апостолов.
А еще потом – через Библию, Книгу книг, которую, впрочем, читали только единицы на миллионы.
«Переводчиками» становились все больше церковь и Августины Блаженные, Фомы Аквинаты...
Наконец, едва ли не главным секуляризированным переводчиком стало искусство.
То, что в Европе растянулось на века (искусство как «перевод» Библии, Нового Завета в первую очередь), в России в XIX веке сжалось, сконцентрировалось, сфокусировалось всего в несколько десятков лет.
А ведь мир – весь духовный мир – взрывается от крика униженных и оскорбленных, от их глаголющего самосознания.
...Вдруг вспомнилась «Кроткая».
Никто, кажется, не осмелился «грубо, прямо, зримо» сопоставить «Кроткую» с потрясением-открытием самого Достоевского, записанным 16 апреля 1864 года: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?»
«Намёчно» – да, было, но тут же – прямо – прямо просится. Не просится – даруется – для понимания и героя, и самого Достоевского.
Я и сам стеснялся: уж слишком казалось явно.
Действительно, явно – куда уж явнее, и нельзя явнее, невозможно просто:
1) Достоевский записывает это, когда Маша (его умершая жена) лежит на столе.
2) А герой «Кроткой» – когда его Маша лежит на столе. Такое же – предельное, запредельное – состояние, соотношение между героем и творцом – в «Сне смешного человека».
Что такое запись Достоевского 16 апреля 1864 года?
Что такое монолог героя «Кроткой»?
Он, герой, в апокалипсисе. Это его апокалипсис.
А все-таки: есть какой-то грех в самосознании, в самопознании, особенно в самонаписании.
Они, может, мертвые. А я пишу, и даже очень красиво пишу.
...Но вернусь к мысли о том, что люди перестали жить в ожидании конца, финала, эпилога...
Предупреждение религиозно-художественное (или, если угодно, художественно-религиозное) угасло и начало восстанавливаться лишь после Хиросимы и Чернобыля...
Русское христианство – православие – вообще родилось как нечто внеапокалипсическое и даже как антиапокалипсическое (в основном).
Это выразилось особенно в расколе: не в двух-, трехперстном крещении дело, а в расколе по апокалипсическому признаку: официальное никоновское православие стало еще более мирским, еще более антиапокалипсическим, а «раскольники», «старообрядцы» – еще более духовными, апокалипсическими...
На Руси до середины XIX века было лишь «устное» усвоение христианства.
«Новое христианство» (термин Бердяева; сюда входят Бердяев, Булгаков, Франк, Мережковский) насквозь апокалипсично.
Рад, что слово «перевод» – и именно в таком контексте – нашел недавно у С. Булгакова («Апокалипсис»).
Официальная церковь и сегодня живет вне апокалипсиса (мои наблюдения 80-х годов – встречи с Вазгеном, православными пастырями, мусульманскими).
Вдруг задумался: почему у Бахтина нет ни слова об Апокалипсисе?
Мое объяснение:
Во-первых, в те годы, когда Михаил Михайлович писал свою книгу, сам «предмет» (апокалипсис) был запрещен.
Во-вторых, вижу в этом своеобразную реакцию его на идеологизацию искусства вообще, Достоевского в особенности.
В-третьих, сам-то Бахтин был (никогда об этом не забуду по нашим с ним беседам в Саранске в 1965 году) насквозь христианский человек. А потому у него все христианство, все православие, весь апокалипсис «растворены» во всех его работах, в каждом его слове: апокалипсис у него просто «переведен» в другие, «легальные», «полулегальные», непонятные для марксистов-атеистов 20-х годов термины.
Я это вначале только почувствовал, но не понял. Понял только сейчас.
Что вызывает такое сопоставление – Гойя и апокалипсис – в чувствах, мыслях читателя? Ну, конечно, прежде всего апокалипсические ужасы: Страшный суд у Гойи... Да нет же! Это просто значит: откровение Гойи, откровение, которым он поделился с нами.
Не устану повторять: апокалипсис не только и не столько Страшный суд, не только и не столько казнь, сколько надежда, помилование, и не столько помилование («сверху», «даровано»), сколько самоспасение (добыто, а не даровано).
В сущности, все очень просто, до ужаса и до радости.
Во-первых, ощущение, предощущение, чувство своей греховности, своей порочности.
Во-вторых, страсть – избавиться от этого греха и порока, надежда на это избавление.
Вот и все. Всего-навсего два «пунктика»: жуткий страх и ни на чем не основанная, но и ничем не истребимая надежда.
Понять надобно: вся надежда не на помилование Высшего судьи, а только на остатки твоей совести, твоих сил: встань, восстань – и спасешься!
И даже тут неправда: встань, восстань, чтобы спасти другого или хотя бы чуть-чуть ему помочь,– вот тогда и спасешься, спасешь-ся.
В общем, это, конечно, прозрение. С этой «точки зрения» кое-что становится яснее, прозрачнее: всякий человек, простой смертный или гений, и состоит из этих двух пунктов: греха, порока и надежды их искупить. Кто как кается и искупает – это уже другой вопрос.
Скажу еще проще: люди живут в апокалипсисе – и не знают, да и знать не хотят, что они живут в апокалипсисе.
Апокалипсис?.. Замутились, запутались мы совсем. Апокалипсис и откровение. О чем? Если уж совсем просто, то – о гибели и спасении...
Еще короче: о Тайне, большом «Икс».
Не может жить человек без апокалипсиса, да и никогда не жил, даже проклиная его, даже отрицая сам предмет. По природе своей не может.
Но эта путаница (апокалипсис – только возмездие, только Страшный суд, без понятия света, одна тьма без света) порождала, порождает и еще долго будет порождать абсолютную безнадежность.
Апокалипсис как надежда.
Апокалипсис как последняя надежда.
Апокалипсис как анти-»Бобок».
Человек, человечество, народ должен, обязан увидеть свой «Бобок», но только для того, чтобы его избежать, его победить.
Не могу избавиться от мысли: «Бобок» наступает, побеждает, добивает нас, последних. Имею в виду не какую-то «иерархию», а просто людей, сие чувствующих и сознающих. Стало быть, вот и вся задача, вот и вся недолга – победить «Бобок», который кажется уже себе победителем.
Пушкин...
Такой свет в такой тьме! Непредставимо ни то, ни другое, особенно непредставимо это сочетание. И вдруг понимаешь или, точнее, чувствуешь что действительно Достоевский прав, когда все эпитеты, принадлежащие по праву лишь Богу, относит вдруг к Пушкину.
До сих пор никогда не задумывался, но ощущение такое: Гегель вне апокалипсиса.
Вне?
Почему? Да потому: Гегель, «немецкий клоп» (так в сердцах называл его Достоевский), все хотел примерить на логике...
А Логика и Апокалипсис – несовместны.
Гегель прямо-таки враждебен морали в Истории, низводит мораль до «бессильного морализаторства» (потом это особенно понравится Марксу и Энгельсу), а апокалипсис – предельная концентрация «всей морали», «всего морализаторства» (ср.: «Мысль злодея выше всяких моралей...» – Гегель).
Но: Гегелю же принадлежит мысль об «абсолютном господине», об «абсолютном господине – смерти».
Разобраться: «абсолютный господин» над человеком или и над человечеством?
Тысячи книг написаны после 1945 года на тему – Бог, Библия, Христос, христианство после Холокоста, после ГУЛАГа, после Хиросимы...
Никуда не уйдешь от этих вопросов. Стало быть, нужно, не струсив, идти им навстречу: все религии, все пророки, все мыслители и художники – перед этими вопросами, после всего свершившегося.
Уже давно для себя определил: плохая память = чистая совесть; чистая совесть = плохая память.
В сущности, у памяти есть еще одно имя (alter ego) – совесть.
А у совести есть еще одно имя (alter ego) – память.
Совесть = память.
Память = совесть.
Их зависимость от времени и пространства.
Если есть зависимость, то их нет.
Если нет зависимости, то они нашлись, есть.
18 ноября
Сегодня ночью я был совершенно счастлив. Это произошло ровно в 2 часа 10 минут.
Читаю «Второе послание к коринфянам святого Апостола Павла» (12; 1–5):
«Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
2. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает)– восхищен был до третьего неба.
3. И знаю о таком человеке ( только не знаю – в теле или вне тела: Бог знает)–
4. Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.
5. Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими».
Вот та искра из «Нового Завета», которую Достоевский разжег в пламя – написал «Сон смешного человека»! Вот зерно, из которого Достоевский вырастил этот сон.
«...он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать...»
Смешной: «После сна моего потерял слова. По крайней мере все главные слова, самые нужные. (...) я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел».
Ищут, нашли и будут еще искать и находить (это правильно, и это очень нужно) многие, уже десятки параллелей, источников «Сна смешного человека» (см. замечательные комментарии к «Сну…» В. Туниманова).
Но истинный первоисточник, праисточник, архетип «Сна» – Библия.
И непонятно, читая «Сон», «восхищен» был Смешной на другую планету (на райскую планету) «в теле или вне тела» (т. е. живьем или только душа улетела).
«...я приду к видениям и откровениям Господним...»
Но если апокалипсис = откровение, если откровение = апокалипсис, то, стало быть?..
Стало быть, во-первых, надо выяснить, не стоит ли в самом первоначальном тексте Библии Апокалипсис вместо откровения, выяснить все слова, образы, понятия откровения – как переведено? И тогда? И тогда выходит, что везде или в большинстве случаев апокалипсис «переведен» на откровение и только в одном случае дан в первоначальном виде. (Проверить это по переводам на разные языки.)
Апокалипсис от Иоанна – гениальный финал гениальной симфонии, лейтмотивом которой и является откровение, которая и сама вся является апокалипсисом.
Во-вторых, все творчество Достоевского – апокалипсис, все – откровение. Но «Сон смешного человека» – даже у него – откровение – апокалипсис – небывалой, невиданной концентрации.
Тут ведь вот еще что, не забудем: «Сон» – последнее законченное художественное произведение Достоевского, тоже гениальный финал гениальной симфонии. (Эта формулировка по отношению к Библии и собственно к «Апокалипсису», конечно, некорректна с точки зрения религиозной, да и не только религиозной: нельзя все-таки в терминах земных говорить о предметах небесных, нельзя «награждать» – «гениально» – силы высшие нашими земными наградами, хотя: не понимаю, почему нельзя рассматривать Библию и как небывалое художественное произведение?..)
И опять сверлит меня старая моя мысль о том, что первоначальное литературоведение, первоначальное искусствоведение есть не что иное, как богословие, комментарий к Библии, интерпретация ее, и здесь давным-давно открыты и развиты все орудия, средства, приемы, методологии, методики будущего литературоведения, будущего искусствоведения.
Удивительно еще одно: не припомню никакого другого (разве кроме «Бобка») художественного произведения Достоевского, написанного столь быстро и свободно, как «Сон смешного человека». Но перестаешь удивляться, когда понимаешь, что это именно финал, эпилог всего его творчества. Все-все уже выстрадано, все-все уже пережито, а тут «просто» сконцентрировано, сфокусировано, десятилетиями выстрадывалось и в секунду, в минуту – вдруг родилось (как рассказ Достоевского о романисте – признание в любви Анне Григорьевне).
22 ноября
Не доходит порой, что две тысячи лет все европейское искусство, литература, вообще культура (а русская – семьсот) коренилась в христианстве, питалась духовно им...
Да что там культура – вся жизнь, вся, вся жизнь. Люди жили в координатах, в масштабах, по ориентирам – христианским. Из века в век, из десятилетия в десятилетие, изо дня в день, с утра до вечера. Утренняя и вечерняя молитвы, религиозные праздники, посты... Быт был бытийствен, христиански бытийствен. Знаменитые итальянские зеркала – это ведь в быту. А церкви, храмы? Тоже ведь «модель» христианского, апокалипсического мира, тоже ведь зеркала духовные, в которые человеки во время богослужения смотрятся все вместе. Смотрятся и по отдельности... И что такое икона, как не духовное зеркало и как не духовное окно, открытое в Божьи тайны?
Так вот, и все люди, а может быть, особенно художники, жили в этих координатах, в этих масштабах, по этим ориентирам. И все это имело такое же значение (понимаю, сравнение хромает), как то, что все они, люди, разговаривали между собой по законам, модусам, формулам логики (даже пусть не зная того, осознанно или неосознанно). Из этого «гравитационного поля» никто не мог вырваться, даже атеисты, а если, как им казалось, вырывались, то кончалось это катастрофой – разбивались...
Библия.
Книга всех книг. Слово всех слов. Азбука азбук.
Откровение всех откровений.
Образ всех образов («Библия – все характеры». Достоевский), прасюжет всех сюжетов, прафабула всех фабул...
«Таблица Менделеева»...
Божья «таблица».
И все искусство – вовсе не «иллюстрация», бесконечные повторения, а каждый раз личное откровение, личное проникновение в Книгу книг – через прочтение «Книги жизни», через «живую жизнь», через страдания.
29 ноября
Надо обдумать мой доклад в Милане. Тема семинара – «Культура в посткоммунистическом обществе». Поедем в январе с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым.
ФОТО 035
Что значит посткоммунистическая культура? Вздор. Есть культура до, во время, после коммунизма, есть культура как единственный способ спасения, самоспасения, единственный способ сопротивления смерти и победа над нею. Только культура спасет.
Что значит «посткоммунистическая культура»?
Реально это значит только одно – культура постсмертности человечества.
Вот это-то главное и не осознается.
Коммунизм (больше, быстрее, нагляднее, чем фашизм) привел человечество на грань жизни и смерти... Не только он: он «лишь» ускорил это движение к самоубийству, ускорил действительно радикально...
А поэтому проблема совсем не в том, что названо здесь и сегодня «посткоммунистическая культура», а в том, как нам спастись, всем человечеством спастись – и коммунистическим, и некоммунистическим.
Поэтому-то я и считаю (прошу меня извинить за это), что весь вопрос поставлен неточно.
Итак...
Существуют многие десятки (если не сотни) определений культуры. Не претендуя ни на какую особливость, я бы определил культуру как единственный способ одоления смерти.
XX век превратил «абстрактную» возможность смерти (самоубийства) человечества, возможность «мифологическую», «метафизическую», «художественную», в предельно реальную, в предельно конкретную, т. е. в технологически-практическую. Человечество действительно оказалось перед выбором между жизнью и смертью, подойдя к пределу пределов, к порогу: впервые оно как род стало практически смертным в условиях ядерной и экологической угрозы.
Фактически человечество вступило в зону своей смертности, в сущности, задолго до 50-х годов XX века, но начало осознавать это именно в 40 – 50-х годах. Правда, тогда это сумели осознать лишь отдельные личности: об этом свидетельствовали Манифест Эйнштейна – Рассела (1946), известное письмо Нильса Бора, документы Римского клуба и др. Для большинства же людей весть о том, что человечество стало смертным, оказалась засекреченной. Род человеческий продолжал существование как практически бессмертный... Да и сейчас большинство людей в полной мере еще не осознали грозящую опасность – не только ядерную, но, что важнее, – экологическую. Это как заболевание раком: болезнь началась, углубляется, а диагноз, как правило, запаздывает (проблема раннего диагностирования).
В предчувствии смерти, в понимании смерти человек (и человечество) либо вдруг рождает, выковывает, чеканит новые точные понятия, выявляющие смысл жизни, либо вдруг осознает прежние понятия, усвоенные им платонически, формально, либо, не вспомнив и не осознав того и другого, бросается в омут, в прорубь – а, пропади все пропадом!..
Ни одно из коренных понятий нашего бытия и нашего познания не может быть определено вне таких трех категорий, как:
1) жизнь,
2) смерть,
3) великий «Икс» (последний может быть назван Провидением, Судьбой, Богом – христианским, мусульманским, буддийским, любым).
Вне этих категорий любая наука обречена оставаться не просто внечеловеческой, но и в конечном счете античеловеческой. Без координат: жизнь – смерть – «икс» – литература, философия, социология, история, психология будут бессмысленны. Может быть, особенно наглядно это видно на психологии, которая вне этих категорий обречена стать механической.
Культура противостоит небытию. Культура утверждает и спасает бытие путем его одухотворения. Благодаря культуре человек не был истреблен животными-соперниками на первой стадии своего существования и благодаря этому же не самоистребился (пока). И весь прогресс человечества – не в цивилизационном смысле, конечно,– это беспрерывное его самоспасение от нарастающей смертельной угрозы путем самовозвышения, одухотворения.
Я был очень рад, когда нашел подтверждение этой мысли в статье Вяч. Вс. Иванова, невероятного эрудита, мыслителя,– «Категории времени в искусстве и культуре XX века» (опубликована в 1973 году в американском журнале, у нас до сих пор не напечатана). Вот что он пишет: «В основе человеческой культуры лежит тенденция к преодолению смерти, выражающаяся, в частности, в накоплении, сохранении и постоянной переработке сведений о прошлом... Эта тенденция особенно обостряется благодаря теоретической и практической постановке проблем, касающихся временных границ цивилизации, локальной и общечеловеческой, в какой-то мере вся человеческая культура до сих пор остается протестом против смерти и разрушения, против увеличивающегося беспорядка или увеличивающегося однообразия, энтропии».
Культура не просто «в какой-то мере» является протестом против смерти и разрушения, а именно во все большей мере становится этим протестом, во все более нарастающей мере осознает себя единственной жизнеспасительной силой. Культура становится, в сущности, единственным способом спасения жизни человечества путем ее одухотворения. Другого пути нет. Все другие пути – самоубийство.
Почти сходные мысли находим мы у Т. С. Элиота. Недаром Элиот начинает писать свои заметки о культуре в разгар Второй мировой войны и заканчивает сразу после нее: тоже протест против смерти. Или вот еще: “Главный фактор в создании общей культуры народов, каждый из которых имеет свою собственную самобытную культуру, – религия. Прошу вас не делать здесь ошибки предугадыванием смысла того, что я хочу сказать. Это – беседа не религиозная, и обращать людей на путь веры в мои цели не входит. Я просто констатирую факт. Меня не столько интересует причастность к Церкви нынешних христиан, сколько общая христианская традиция, сделавшая Европу тем, что она есть, и общие культурные элементы, которые это общее христианство с собой принесло. Если завтра обратить в христианство Азию, она тем самым частью Европы не станет. Именно в христианстве развились наши искусства; именно в христианстве коренилось – до самого последнего времени – европейское право. Именно в плане христианства обретает значение все наше мышление. Отдельные европейцы могут истинности христианского учения не признавать, и все же все то, что они говорят, что делают и как поступают, будет проистекать из их наследия христианской культуры, и значение всего этого будет находиться в зависимости от этой культуры” («К определению понятия культуры», 1948, с. 158).
Известно, что за последние десять лет в естественных и точных науках накоплено больше знаний, чем за всю предыдущую историю человечества. Эти знания передаются непосредственно.
Совсем по-другому обстоит дело со знаниями духовно-нравственными. Главным фундаментом этих знаний человечество владеет, быть может, уже пять тысяч лет. И прибавки к этим знаниям – через святых отцов церкви, мыслителей, художников – можно измерить лишь «граммами» к уже нажитым за тысячелетие «тоннам». Основные нравственные постулаты и духовные заповеди на три четверти, если не на девять десятых, одинаковы во всех мировых религиях. Они общеизвестны. Секрет только состоит в том – в отличие от естественно-научных знаний,– как претворять их в жизнь.
Еще недавно нас пугали «реакционностью» «мракобеса» Мальтуса, который доказывал, что число людей в мире растет в геометрической прогрессии, а количество продуктов питания – в арифметической. Я бы «добавил» к Мальтусу: человечество настолько быстро развивается, что ему не хватит прежде всего пищи духовно-нравственной. Похоже, что пища эта даже убывает.
Известны данные о том, как росло население Земли: в 1800 году оно составляло 1 миллиард человек, в 1900-м – 2 миллиарда, в 1961-м–3 миллиарда и скоро составит 6 миллиардов человек. Этот рост человечества «по экспоненте» происходил одновременно с процессом своего рода обезрелигиозивания его. В годы средневековья и крестовых походов (при всех издержках этих мрачных времен) скрепы нравственности все-таки держали общество. В России атеистов еще почти не было даже в XVIII веке, а тех, кто был, потаенных и колеблющихся, можно было по пальцам перечесть...
Ну а потом наступило господство атеизма, к тому же еще вульгарного, означавшего снятие всех духовно-нравственных скреп и подмену их суррогатными, так или иначе в своей сущности иезуитскими. Оказалось: все средства хороши... После диких войн, которые пережило человечество и которые никто не смог остановить (все дубасили друг друга, перекрестясь), трудно было не стать атеистами.
...Вначале существовало нерасчлененное, синкретическое знание, в котором совершенно органически сочетались и наука, и искусство,– и было оно подчинено критериям жизни и смерти, именно этим масштабом измерялось, именно этими ориентирами руководствовалось (этот синтез нерасчлененный не мог не быть религиозным). Но, вероятно, начиная с XV–XVI веков началась и все более ускорялась дифференциация знаний, которая привела к тому, что наука оторвалась от критериев, масштабов, ориентиров жизни и смерти человеческого рода (наука стала нерелигиозной и даже антирелигиозной).
Важно и другое. Духовно-нравственные заповеди в отличие от естественно-научных знаний действуют, только будучи воплощенными в личностях. Но людей, их воплощающих и как бы олицетворяющих культуру как победу жизни над смертью, современных праведников – все меньше. У нас в этом отношении совершенно выжженное поле. Да и в мире положение не лучше.
Процесс овладения культурой и постижения нравственных ценностей происходит в самом человеке, и в этом его самоспасение. Нужно быть беспощадным к себе, чтобы пережить муки этого пути.
Такой трудный путь прошел Солженицын, который начинал с того, что славил революцию и даже на Лубянке, во время первых допросов, защищал ленинские идеи. Я знаю, что у него на этот путь внутреннего освобождения ушло около десяти лет. И каких! Война, лагерь, болезнь – встречи со смертью.
У Достоевского на «освобождение» от увлечения социалистическими идеями ушло лет восемь-десять (с 1849 года, когда его едва не расстреляли, до 1856–1858 годов).
В каждом человеке происходит либо осознание факта смертности и ответственности перед лицом смерти, пока еще индивидуальной, либо беспрерывное бегство от этого факта. В предельных формах последнее выглядит так: «однова живем», «хоть день, да мой»... Но именно здесь происходит завязь всех форм самосознания человека – развитых, полуразвитых и недоразвитых.
Мне кажется, есть рациональное, плодоносящее зерно в противопоставлении, в дихотомии – культура и цивилизация.
Цивилизация есть специфически человеческий способ убийства всего живого и в конечном счете способ самоубийства человечества.
Культура есть способ самоспасения человечества и спасения всего живого.
Грубо говоря, цивилизация – губит, культура – спасает.
Особая сложность вопроса в том, что если не отрываться от реальности, то есть от реальных конкретных людей, то эти понятия, столь резко противопоставленные, на самом деле переплетены. В жизни и одного человека, и народа, и общества, и человечества в целом обе эти тенденции взаимодействуют. То берет верх одна, то другая...
Культура – не просто способ «выживания», и уж тем более не выживания в смысле «спасения животишек», что, по мысли Достоевского, «самое последнее дело». Культура есть спасение и самоспасение путем духовного возвышения. Культура – система, совокупность всех знаний, ориентированная на спасение жизни вообще и человечества в частности – путем прежде всего духовного возвышения.
Цивилизация есть бесконечное совершенствование способов убийства и самоубийства, это – совершенствование технологии смерти, замаскированное прелестями (в библейском значении слова «прелести» – «прельщение») всяческого облегчения жизни, когда «комфорт» становится самоцелью.
Иначе говоря, цивилизация есть ускоряющееся экспоненциально развитие, совершенствование технологии: технологии «комфорта» и технологии убийства.
Именно ради этой технологии и выработалось у людей такое отношение к природе и друг к другу, которое и поставило в середине XX века весь мир перед угрозой его смерти.
С этой точки зрения история человечества должна в первую очередь рассматриваться как: 1) история убиения природы и 2) история войн, история прогресса орудий убийства.
Количество войн... Количество убитых, раненых...
Другие последствия войн – голод, эпидемии. Падение цены человеческой жизни... Вообще, реальная история человечества – это и есть история падения цены человеческой жизни. Мало что почти до нуля, но даже до минусной величины.
Никогда ни одна форма жизни – от самой наипростейшей, от самой первоначальной до самой наивысшей – не могла сохраниться, укорениться без встречи со смертью. Простое самоповторение самоубийственно. Это все равно как спутник, вращающийся на заданной орбите, но обреченный рано или поздно рухнуть, сгореть.
Именно при встрече со смертью жизнь вдруг находит в себе новые силы не просто сохраниться, а сохраниться путем возвышения, развития, путем новой мутации.
В этом смысле гениальные люди человечества, в первую очередь религиозные мыслители, пророки, художники,– это и есть спасительная мутация человечества.
Ничего сколько-нибудь серьезного, что могло и должно было остаться на века, навсегда, люди не могли создать без встречи со смертью. Культура и начинается с самосознания, т. е. с самосознания жизни и смерти, с самосознания тайны.
Главнейший вопрос культуры сегодня как спасения (исходя из определения культуры) – экология.
Сегодня экологи спорят лишь о сроках гибели земной жизни. Но самое угрозу гибели не отрицает никто.
Ясно, что, прежде чем мы разобьем друг другу черепа атомными или другими «дубинками», мы просто все вместе задохнемся в нашем общем доме, который уже начал гореть. Чернобыль пока нас не научил. Дом горит, а мы все еще занимаемся мелкими кознями, пакостями – на почве ли национальных, религиозных отношений, движимые тщеславными, карьеристскими амбициями и т.д.
Но культура должна помочь нам прозреть перед угрозой смерти... Существует, правда, какое-то странное заблуждение: ничего, инстинкт самосохранения спасет человечество. Да, инстинкт самосохранения был у человека, как и у животных. Но дальше вся история человечества состояла в потере этого инстинкта.
Итак, впервые человечество стало практически смертным... И впервые мы благодаря культуре сознаем это и сознаем, кто мы такие. Каждый по-своему, на языке своей национальности и на уровне своей индивидуальности, открывает, что все мы прежде всего земляне. Вот в этом еще одна природа культуры.
Если культура – спасение от смерти, то приоритет всех приоритетов – экология. Именно сюда сходятся все нити, все направления, все вопросы. Именно осознание этого, как ничто другое, отсутствует сейчас в мире, а у нас особенно. «Общечеловеческое» оказалось или кажется дискредитированным так же, как демократия. На этот счет во всех президентских, правительственных и общественных декларациях экология на отшибе, нечто досадное, на десятом плане, почти неприятная оговорка (так же, как и культура вообще, образование в частности).
Предстоит осознать две вещи: незамедлительность выработки программы, но программы – долгосрочной.
А для этого прежде всего опять-таки незамедлительное, но уже решение, во-первых, сохранение нажитой культуры, а во-вторых, развитие, т. е. посев и выращивание новых носителей культуры, т. е. проблемы детей.
А. И. Солженицын как-то «поймал» Б. Н. Ельцина на этом: ведь первый указ президента – все об этом забыли – был об образовании, т. е. о школе, т. е. о детях и юношестве.
Все наше последнее десятилетие, все наши реформы, так сказать, безмолодежны в двух смыслах: молодежь не стала движущей силой реформ – явление уникальное! – а реформы не направлены на молодежь, безадресны.
Сегодня есть только один, но самый-самый главный конфликт – между человеком и природой, т. е. ускоряющееся нарастание экологической катастрофы, и только на этой основе, на основе разрешения этого конфликта, на основе разрешения этой катастрофы, могут и должны быть разрешены все остальные конфликты (социальные, национальные, политические, религиозные и пр.). Только на этой основе возможно истинное единство как внутри стран, так и между ними.
Особо: превращение всех вооруженных сил, всех высочайших военных технологий, всех армий – в армии экологического спасения.
10 декабря
Сегодня утром я второй раз посмотрел экранизацию гениальной повести Л. К. Чуковской «Софья Петровна»...
Все-таки: моя вина, наша вина (даже А. И. Солженицына) в том, что не сумел я, не сумели мы донести до всех остальных одно: что с нами произошло за эти 70 лет: список, список. И оптовый (меньше всего доходит), и розничный (больше всего доходит). Задача остается невыполненной.
«Скверный анекдот» и есть самая общая формула всех наших реформ.
Говорят, и, возможно, не без основания: прямые политические параллели Достоевского с сегодняшним, со вчерашним – это, дескать, поверхностно...
Согласен. Сам отдал этому дань.
Но еще и еще раз: а если он, она, мы, я прошли через эту параллельность, через эту «аналогию»? А вы, ты, он, они проходили через нее?
Самое лучшее, что в себе я знаю,– это то, что я дал зарок лет двадцать назад, что буду каждый год читать «Архипелаг ГУЛАГ». И я выполнял это всегда...
Ахматова:
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь
Старею. Кажется, уже два-три года не перечитывал «ГУЛАГ». Это грех, это больше, чем грех.
Вообще-то все просто: либо ты себя в жертву приносишь другим, либо других – себе. Только вокруг этой оси мы все и крутимся.
Конец декабря
Игорь Виноградов в своем журнале («Континент») хочет собрать шестидесятников, вернее, на конференции поговорить об этом странном племени.
Шестидесятники – дети не ХХ съезда, а Ивана Денисовича.
Ну, конечно, термин неточный, но… прижился, и прежде всего в значении – «дети ХХ съезда». Но если говорить уж чересчур собирательно, массово, то мы, шестидесятники, вовсе не «дети ХХ съезда», а незаконнорожденные дети «Одного дня Ивана Денисовича», так и не сумевшие распознать своих родителей.
ХХ съезд стал взрывом политического и политизированного сознания, самосознания. «Один день Ивана Денисовича» был (во многом неосознанно) взрывом духовно-религиозного сознания, самосознания.
Величайшие художники, мыслители XIX века предвидели и предупреждали: Россия идет в пропасть коммунизма. Но они же предвидели и предупреждали: коммунизм сам идет в пропасть. Обречен.
Не было страны более предупрежденной, чем Россия, и не было страны более глухой, чем Россия, к этим предупреждениям. И, добавлю с горечью, более (по крайней мере, пока) не способной извлечь уроки из своей судьбы.
«Один день Ивана Денисовича». Это был какой-то абсолютно невероятный реквием-марш, моцартовский реквием и, одновременно, Третья Героическая Бетховена. Никогда, я думаю, на столь малом пространстве белой бумаги не был выращен такой страшно-прекрасный художественно-духовный урожай, разве только в «Кроткой» и в «Сне смешного человека» Достоевского (о Новом Завете не говорю).
Стоит задуматься над темнотой, буреломами тогдашних наших душ. Только что прочли роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Путаница была невероятная. Простую, честную информацию о том, что творилось в главной России, т.е. лагерной, мы воспринимали как великое художественное открытие.
Но когда вышел «Один день…», очень немногие поняли, что произошло величайшее духовно-художественное религиозное открытие ХХ века. Раскрылись, начали, наконец, раскрываться глаза на коммунизм в его человеконенавистнической, богоборческой сущности.
Нас воспитывали на классике русской литературы XIX века: «Станционный смотритель», «Шинель», «Бедные люди»… Вот тогда, там, с ними так было. А у нас – «жить стало лучше, жить стало веселее»… И все лучше, и все веселее. Треть народа сгубили – и все лучше, и все веселее. Да забыли о простом «человечке»… «Все мы вышли из “Шинели”». Все, почти, конечно же все, – Платонов, Зощенко, Мандельштам, Ахматова, Чуковская… вышли из другой шинели, не гоголевско-башмачкинской, а из сталинско-ежовской.
«Один день Ивана Денисовича» показал нам, наконец, нашу рожу.
Естественно, захотелось разбить зеркало. До сих пор разбиваем.
Может быть, оттого и все беды наши последующие, что мы так до сих пор и не поняли, что мы – дети «Ивана Денисовича».
Если так и дальше: не поймем – погибнем.
1997
2 января
Умирает мой друг, школьный, университетский, всей жизни друг – Лёня Пажитнов.
Можно сколько угодно себя “откладывать”, пока не поглядишься в зеркало. Зеркалом позавчера был для меня Лёня Пажитнов. Отвез его в больницу к Юлику Крелину – умирать. Рак. Остались считанные дни. Вот так – в конечном счете, в конце концов, реально – все и происходит. Я ему еще позавидовал: потому что в таком состоянии, при таком “анамнезе”, в таком виде (не знаю, но) я бы не смог быть.
Один из самых порядочных и тихо мужественных людей. Есть еще и третье качество: всегда вкалывал. И выполнял свою работу, в отличие от меня, в срок.
Все, понятно, все минется. Но все-таки, если все “сосчитать”, “подсчитать”, нет у меня человека более близкого, чем он (при всех иногдашних “отдаленностях”, соперничестве, конечно, промахах и с той, и с другой стороны...), – ближе нет. И вот что странно. Никогда в жизни мы не объяснялись друг другу в любви, ни по молодости, ни по пьянке, ни по взрослости, ни разу... А был какой-то нерв, который мы оба скрывали: все было понятно, а показывать было нельзя...
…Дай Бог мне память, сначала мы хоронили вместе его отца, потом моего, сначала – его маму, потом – мою. Я был на его первой свадьбе (в 1949-м), потом возил письма в Прагу его Ире (Рубановой). Он знал Зою (мою первую жену) и даже был немного влюблен в нее. Всю жизнь почти мы на виду друг у друга, никогда ни одним укором – словом он меня не уколол, но иногда взглядывал на меня с удивлением...
Перед Ирой его – преклоняюсь. Тут ему счастье выпало. С Алешкой, сыном его, наш шуточный, шутовской “заговор” (жениться на моей Наташе) не получился. А сейчас, увидав Алешку через 30 с лишним лет, пожалел страшно: все Лёнькины таланты, а еще и – уже не наша деловитость (одно другому не мешает).
Возвращаюсь к мысли о судьбе России, тем более что сегодня ночью перечитал статью Л. Пажитнова и Б. Шрагина на эту тему (“Русская мысль”, статья “Соловьев–Блок”).
Тема, идея – навсегда неизбывные.
Два способа, два пути приобщения к ней:
1) извне (“от знания”);
2) изнутри – это надо прожить, пережить...
Все-таки разделение людей – вовсе не “классово-социальное”, “религиозно-национальное”. Глубинная сущность разделения только одна: свалить свою вину на других (“раса”, “нация”, “религия”, “политика”...) или взвалить (не мелочась) все на себя.
Сваливай или взваливай. Есть два препятствия.
Первое. Понять это – препятствие малое, но абсолютно необходимое.
Второе. Сделать.
Сегодня, в 7 утра, умер Лёня Пажитнов.
Не помню кто, кажется Константин Леонтьев, сказал: в России много людей совестливых, а честных, порядочных найти трудно...
Леонид Пажитнов – удивительное исключение из этого печального и страшного правила.
Для меня это – самый долгий друг. Ближе уже никого не будет. С 43-го по 48-й – в одном классе московской школы, в 48–53-м – вместе студентами философского факультета МГУ, потом еще три года – в аспирантуре, потом работали вместе в Праге. Исключительная порядочность, точность в любых “мелочах”, доброжелательность в отношениях с людьми и в то же время тихая, надежная неуступчивость в главном – таким всегда был Лёня.
Классический русский интеллигент. Когда в 68-м он, вместе со своим другом и соавтором Борисом Шрагиным, оказался среди других “подписантов” и всем предложили отречься, суля “сохранить партбилеты”, для Леонида, для них обоих с Борисом Шрагиным, – в отличие от остальных – вопроса о выборе не было.
Вспомнил еще, как 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, он проводил какое-то занятие в проходной аудитории философского факультета МГУ и как кто-то возмутился этим бесслезным “святотатством”. Леонид просто не понял, о чем шла речь.
Его книги о Монтене, о раннем Марксе, о Толстом, последняя книга, в соавторстве с покойным тоже Борисом Шрагиным, о Вл. Соловьеве и А. Блоке – спокойно убедительны.
Очень естественным было его музыкальное образование и дарование – еще одна черта редкой гармонии личности.
“Русская мысль” потеряла одного из самых талантливых своих авторов.
16–17 января
Перечитываю Достоевского (после возвращения из Рима, где видел восстановленные фрески Сикстинской капеллы).
Запрет главы «У Тихона» в романе «Бесы» абсолютно равен тому, как какой-то кардинал приказал Микеланджело «одеть» все фигуры обнаженных. Этого кардинала так и прозвали – «одевальщик».
На открытии реставрированной стены Сикстинской капеллы в Ватикане папа Иоанн Павел Второй произнес гениальную речь, и, в частности, сказал о духовности обнаженного тела, изображенного Микеланджело.
Запретить главу «У Тихона» – тоже самое, что «одеть» персонажи Микеланджело.
Реставрация росписей Микеланджело в Сикстинской капелле – действительно великое событие. В работу вложили столько любви! И – вот знамение! – на реставрацию фресок капеллы ушло ровно столько же времени, сколько на их создание.
Небо Сикстинской капеллы еще можно было очистить. А настоящие небеса?
Пока рассматривал восстановленные фрески, не покидала меня мысль: а каково было Микеланджело снова войти в Сикстинскую капеллу, четверть века спустя после его первой работы в ней? Дело было не только да, может, и не столько в соревновании с самим собой, в необходимости превзойти самого себя, молодого, но и в том – главное,– чтобы увязать все это композиционно. Увязать не просто «содержательно» (потолок, свод, «небо» = Ветхий Завет, стена = Завет Новый, эпилог всей Книги), но и «формально».
Вошел Мастер нехотя. Сопротивлялся. Отнекивался (как и в первый раз). Решился наконец. Год расчищал стену, готовился. Бесконечно все продумывал. Рисунки, рисунки... Как сочетать?.. И – уверен – при всей «азбучности» этой мысли, этого чувства, – мысль, чувство родились у него вдохновенно, мгновенно, озарением, откровением.
Первый взгляд на свод и на стену...
«Увязано», не знаю как – игрой цвета, красок, какой-то античной красотой мощи тел...
Не могу оторваться от картины Страшного суда. Подсчитал: не меньше трехсот персонажей.
И вдруг ударило: сравнение Адама и Христа. Божественное происхождение человека и человеческое происхождение Христа?..
Откуда-то вдруг всплыло, из каких-то недр памяти: Христос – второй Адам... Выдумать – не мог. Значит, где-то у кого-то когда-то вычитал (тоже вот странные загадки памяти, беспамятства: мобилизация мыслей, чувств вокруг какого-то «пунктика» – и...).
У кого мог вычитать? Гипотеза: наверное, у Бердяева.
Христос – второй Адам.
А если это так (а это, конечно, так!), то есть если первый Адам – рукотворение, духотворение Божье... тем более, тем более второй, – все становится яснее ясного, а именно: неизбежное, неминуемое, необходимое сходство у Микеланджело лиц, тел Адама и Христа, первого Адама и второго Адама.
Уверен, есть или найдутся совершенно точные научные способы, методики, благодаря которым можно будет, тоже совершенно точно, «идентифицировать» образы Адама и Христа: прототип был общий! (Когда помру, спрошу у Микеланджело на том свете: сам-то он знал?)
Почему, почему Микеланджело так упорно, неотвязчиво, так долго хотел сделать гробницу Юлию II?.. Тут какая-то тайна. Какая?
40 (сорок!) скульптур хотел поставить. Сделал, кажется, шесть. Почему?
Наверное, в замысле было – вовсе не памятник именно Юлию II, а просто человеку, грешному, как и мы все, человеку, однако человеку, еще не погубившему мир, но уже готовому, предуготовленному, готовящемуся погубить его.
Для скульптора, как ни для кого, тело = душа. Это просто его язык.
А если оскульптурить героев Достоевского, то я их вижу в скульптурах Микеланджело, а если олитературить скульптуры Микеланджело, то это – герои Достоевского.
Старая мечта (сейчас обострилась): увидеть бы такую картину, на которой – все персонажи, все герои Достоевского (даже только замышленные)...
Все-все – на одном «пятачке».
Но ведь этот «пятачок» и есть Апокалипсис, и есть Страшный суд Достоевского.
Разница, обусловленная не только и не столько спецификой творчества каждого из этих художников (живописец, скульптор, писатель), но и эпохально разным подходом к человеку (несравненно большая индивидуализация у Достоевского).
Страшные суды у Босха, Дюрера, Микеланджело, Брейгеля.
«Страшные суды» до них, после них, в их время?
В католичестве, в православии, в протестантстве?..
Имею в виду не только изобразительное искусство, но и вообще все искусство, литературу тоже.
Нет, все-таки, наверное, Достоевский в Сикстинской капелле не был. Если б был, не мог бы не откликнуться.
А мог ли Достоевский видеть Босха, Брейгеля, Дюрера? (Дюрера, наверное, мог.)
А видели ли они друг друга? Могли ли видеть?
Рисунок Микеланджело – записные книжки Достоевского.
Искусствовед В. Дажина в своей книге «Микеланджело. Рисунок в его творчестве» приводит слова Микеланджело, слова, которые больше всего меня поразили и обрадовали: «Рисунок, который иначе называют наброском, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры, рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки».
Она, Дажина, по-моему, замечательно точно, тонко пишет: его рисунки – это как бы «перевод» его сонетов. (Какое счастье, что есть эти сонеты и эти рисунки,– какое несчастье, если бы не было черновиков Достоевского.)
Итак, сам Микеланджело «переводит» свои линии в слова, а слова (мысли) – в линии.
Вот так я и понимаю «рисунки» Достоевского, т. е. его записные книжки, наброски, черновики. У Достоевского, если угодно,– рисунок рисунка... У него – рисунок не линиями, а словами.
Скажут (а я и сам говорю себе это беспрерывно): так ведь это просто невозможно, невозможно для нормального читателя и почти невозможно для исследователя?!
Ответ: для нормального – да, но для исследователя?
Исследователь и обязан совершить эту работу, адски-райскую, чтобы «сократить времена и сроки» для нормального читателя (а он, в свою очередь, сократит какие-то «времена и сроки» и для меня – в другом).
У М. М. Бахтина есть гениальная мысль: Достоевский «мыслил целыми мировоззрениями».
Лет 25–30 тому назад мы с Эрнстом Неизвестным сами додумались: если каждое произведение (да и все творчество) великого художника – это как бы храм, то в отношении Достоевского можно сказать так: он строит свой храм из храмов других. Храмы «чужие» он делает своими, своими «кирпичиками»...
Все так.
Но: чтобы так мыслить, чтобы так строить, надо в совершенстве знать эти «целые мировоззрения», надо знать эти чужие «храмы» как свои, и только тогда можно так мыслить, можно так строить.
Ну вот, к примеру, – о Шиллере.
Еще в юношестве Достоевский прочел всего Шиллера: «Я вызубрил всего Шиллера, бредил им...»
Для тогдашнего читателя эти чувства и мысли Достоевского были родны, понятны (как и для его героев).
Автор, герои, читатели говорили на одном языке, слушали друг друга на одной «волне», понимали друг друга с полуслова, с полунамека.
Вот что значит конкретно мыслить «целыми мировоззрениями», строить свой храм из храмов-кирпичиков.
Может ли так мыслить, строить, сотворчествовать читатель современный (да и даже большинство исследователей)?
А еще вспомним, что значила для Достоевского та же «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Христос» Гольбейна.
То же самое и с музыкой, которую слушал, любил – не любил Достоевский...
Короче, то же самое со всей его «библиотекой», литературной, изобразительной, философской, музыкальной...
Странно все-таки (к вопросу о самосознании, о самопознании), почему «притянуло», «примагнитило» меня к Достоевскому, а потом – к Гойе, Микеланджело, Босху, Брейгелю, Леонардо, Э. Неизвестному... Тут какая-то неизбежность. Такое чувство, что это не я выбирал, а как-то само собой выбиралось.
2 февраля
Существует предрассудок о плохой памяти Достоевского, усугубленной падучей (“кондрашка с ветерком”). Сам он сколько раз жаловался. Приходится перечитывать написанное, потому что забыл. Не узнавал людей – те обижались. В начале “Преступления и наказания” у Катерины Ивановны четверо детей, в конце – трое (да еще и имена перепутаны). Примеров можно набрать много.
Но:
Во-первых, главные чувства, главные мысли, главные формулы, главные слова он на протяжении всей своей жизни повторял на редкость точно, лейтмотивно, несбиваемо.
А во-вторых, существует масса свидетельств его прямо-таки удивительной, феноменальной памяти – наизустной памяти не только на стихи, на любимые стихи и на любимую прозу. И не только в молодые годы, но и на склоне лет.
Март
А у меня предложение: ну, пусть каждый художник, поэт, просто человек составит свою антологию, пусть, ежели не хватит энергии для пробивания, для работы, просто пусть хотя бы составит свой список любимого, «опись» (имена, фамилии, стихи конкретные...). Пусть это же сделает и ученый, да и просто каждый – кто захочет.
13 июня
Всю ночь и весь день «Эхо Москвы» передает песни Булата Окуджавы.
Не знаю, кем он будет для будущих. Но очень хорошо знаю, кем он был для меня, для нас, наверное, для десятков, если не сотен тысяч. Что бы там ни происходило, его тихий голос, его серебряный камертон все эти 40 лет всегда помогал выплыть, не разрешал утонуть – помогал не меньше, чем аввакумовский колокол Солженицына. Этот тихий голос заглушил весь тот чудовищный грохот лицемерия, цинизма, лжи, в котором мы жили и о котором сейчас забываем. Этот голос вдруг напомнил нам, что мы – люди:
Совесть, благородство и достоинство –
вот оно, святое наше воинство.
Этого напоминания, конечно, не могли стерпеть нелюди.
Ничего, ничего, что его голос сейчас почти не слышен за новым грохотом новых временщиков. «Песенка о Моцарте», «Молитва Франсуа Вийона», «Надежды маленький оркестрик», «Старинная студенческая песня» («Поднявший меч на наш союз...»), «Возьмемся за руки друзья» переживут их всех. Это моцартианско-пушкинское – навсегда.
Конец июня
Вот и ушел Булат.
Его тихие арбатские похороны – это наши третьи действительно национальные похороны, после Владимира Высоцкого и Андрея Дмитриевича Сахарова. Кто был в тот день в Театре имени Вахтангова и видел лица тех людей, что пришли попрощаться с Булатом Окуджавой, – у того снова затеплилась надежда.
ФОТО № 108
Начало июля
Наверное, его нельзя понять без Пушкина и Моцарта, точнее – без пушкинского Моцарта (ведь это, в сущности, духовный автопортрет самого Пушкина).
...Скоро Сороковины, а я все еще никак не могу собрать все мысли в точку, никак не могу их сфокусировать.
Так было, когда умерли В. Высоцкий в 80-м, А. Д. Сахаров – в 89-м, Л. К. Чуковская – в 96-м...
Полюбил – с «первого взгляда», то есть с первого слова, с первого звука – навсегда (услыхал в 60-м, конечно, с магнитофона). У всех, кто любит его, наверное, было так же. Но кто же все-таки первым понял-почувствовал великую его судьбу? Судьбу «властителя чувств»? Это и юный тогда, в 1958-м, Ст. Рассадин, и Л. Лазарев, фронтовой сверстник Булата, и чуть позже такой же его сверстник А. Володин...
Сблизились больше 30 лет назад, но особенно в последние годы, уже здесь, в Переделкине. В 93-м, когда только переехали, он пришел к нам и принес на новоселье маленький, с детскую ладонь, пейзаж, инкрустированный по дереву (это политзэки ему подарили несколько таких простых и трогательных поделок, сработанных «на зоне»).
– Как тебе здесь?
– Не верится. Просыпаюсь, щиплю себя: не приснилось ли?
А я уже восьмой год себя щиплю...
А мне еще не верилось, что вот он – здесь, что я могу зайти к нему. Да и до сих пор – и тоже навсегда – не верится, что был у него на 45-летии, на 60-летии, на 70-летии, на многих его выступлениях, что встречали у него Новый год, что посвятил он мне два стихотворения... Сейчас это как сон.
В мае 69-го на гурзуфском рынке я стоял и прикидывал, как бы хитрее истратить трешку с мелочью. Вдруг кто-то сзади тихо дотронулся до меня. Оборачиваюсь: Булат! Поговорили, а когда расставались, он очень тактично и даже сухо, по-деловому вдруг передает мне 300 рублей: «Я знаю, как тебе сейчас, сам был в такой шкуре. Разбогатеешь – отдашь. А я сейчас могу...» (Я перед этим публично выступил против травли А. И. Солженицына, а также Булата Окуджавы, Владимира Максимова, Наума Коржавина, Эрнста Неизвестного – со всеми вытекающими отсюда последствиями.) Позже узнал, что он помогал вот так же тихо десяткам людей.
А на прощанье: «Приезжай с Ирой к нам в Ялту 9 мая...»
Мы с женой приехали, думая, что на День Победы, а оказалось, и на день его рождения. Он тогда сказал: «Я до 45-го года все переживал, что этот день ничем не ознаменован, и нa тебе...»
Каждая встреча с ним, каждый его звонок – подарок, лучик счастья.
Когда в 93–94-м годах в «оппозиционной» печати устроили мне травлю за якобы «оскорбление России», он позвонил: «Не обращай внимания. Они бы и Пушкина, и Чаадаева, и Лермонтова затравили, пусти их в те времена...»
«Пусти их в те времена...» Он в тех временах был своим...
Последний звонок перед последней его поездкой: «Не хочется ехать. Мечтаю перебраться к вам» (то есть в Переделкино, на свою дачу, которую он как-то на время разлюбил после того, как ее ограбили...).
Упрекали его – то с недоумением, то злобно: «Все о себе да о себе, что в стихах, что в прозе...»
Как не понять то, о чем сказал Л. Толстой: чем глубже в себя копнешь, тем общeе выходит...
Потому-то тысячи и тысячи неназванных воспринимали его Слово как обращение к ним лично...
Он прежде всего спасался Пушкиным, жил духовно в XIX веке не меньше, если не больше, чем в веке XX.
Поразительно тихо, красиво и убедительно произошло его освобождение от коммунистических иллюзий. Беспощадно к себе прошлому, но без всякого надрыва. Я бы сказал – художественно убедительно.
И отношение к родителям своим, к их большевистским убеждениям – непримиримое, но и мягко-ироничное, и печально-жалостливое: палачами не были, но палачам помогали, а потом сами оказались жертвами палачей. Не страшный суд, не реабилитация, а как бы духовная амнистия. Во всем – пушкинская мера, пушкинская «милость к падшим», но к палачам – непримиримость абсолютная.
Пожалуй, никто так убедительно не продемонстрировал разницу, противоположность между тщеславием (тщетной погоней за славой), мнимой честью и честью истинной, честолюбием, между самозванством и «самостояньем человека» (пушкинское слово).
Достоевский: «…жизнь – целое искусство… жить – значит сделать художественное произведение из самого себя». Окуджава – сделал.
Чего не хватает на Руси – с тех пор, как в ней появился Пушкин, или, точнее, с тех пор, когда она ни с того ни с сего родила Пушкина?
Дружбы душевной, братства духовного. Лицей это вдруг чудом воскресил, возродил... и опять вдруг все пропало.
После Пушкина культа дружбы до булатовских времен не было.
Как они все страдали, осознанно или неосознанно, – все наши великие, после Пушкина, как они хотели иметь свой Лицей. Достоевский, может быть, пронзительней всех прочувствовал эту потребность и чудесно взорвался в ней – в последней, в самой последней сцене «Братьев Карамазовых» – «У Илюшиного камня». Как не понять: Илюшин камень и есть почти осуществленная мечта о – «Лицее»... Этот детский, подростковый, юношеский Собор, которому никогда еще не удалось превратиться в Собор взрослых. Но, по Достоевскому же: хотя бы один огонек светил, хотя бы одна искорка горела.
Вот такая искорка, огонек такой и был Лицей.
Вообще-то смешно: страна азиатская и – вдруг – Лицей, эллинский.
Соединимость несоединимого?
Наверное, для этого Пушкин и пришел именно на землю русскую.
1998
2 января 1998, 7 утра
Вчерашний наш Новый год – втроем – был очень добрым. Мы о нем долго будем вспоминать.
Удивляюсь бесконечной вере в меня моей Иры. И преклоняюсь перед этой верой. Она мне помогает, но, кажется, помогает и ей.
Андрею Вознесенскому на Новый год.
Кажется – нет ничего банальнее банального, проще такого простого: живопись, графика, архитектура – ГЛАЗ; музыка – УХО; литература, особенно поэзия, – борьба уха с глазом, борьба, в которой глаз несправедливо побеждает ухо... Ну, и всякие там сопоставления, вроде: архитектура – застывшая музыка и т.п.
Но вот два вопиющих исключения из этого правила.
Первое – Гойя.
Второе – Чюрлёнис.
Гойя, начиная с «Капричос», – небывалый, все нарастающий крик, вопль, плач.
Его не просто видишь. Его начинаешь слышать. И начинаешь едва ли не глохнуть от этого крика.
Прежде всего почти буквальное воплощение крика: “Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде». “Расстрел повстанцев в ночь со 2 на 3 мая 1808 года”, офорт с изображением воздевшего вверх руки и кричащего человека... Картины. Рисунки, где изображена чудовищно слышимая тишина. Тишина громче всякого крика...
И дело здесь, конечно, не только во внезапно настигшей художника глухоте. А это надо заставить себя представить такое: абсолютно, почти абсолютно оглохший художник...
Вспомнить работы психологов (в том числе и философа Эвальда Ильенкова) над изучением восприятия глухих.
Вспомнить мои ощущения в школе для глухонемых в Мордовии, как глухонемые дети разучивали стихи – “Улетают, улетают, улетели журавли...” Жуткий нечленораздельный вой, тоскливее, печальнее любого волчьего.
Бетховен...
Да, болезнь.
Но еще – такое ощущение, как будто он оглох от всех криков, стонов, воплей людей, человечества. Вот, может быть, главная болезнь.
Эту особенность Гойи удивительно, потрясающе точно угадал и выразил (наверное, неосознанно, но тем более убедительно и неотразимо, великолепно) Андрей Вознесенский.
Вот уж поистине победный реванш УХА над ГЛАЗОМ.
И – буквально – с первой строки:
Я – Гойя
Глазом глазу этого не понять. Это надо только слышать.
Здесь у него, у Вознесенского, эта феноменальная, кажущаяся кому-то едва ли не патологической способность, страсть к звуковой игре перестала быть самоцелью, “формой”, но абсолютно слилась с “содержанием”. Абсолютная взаимозависимость. Абсолютная взаимопроницаемость, взаимопроникновение. Это как у Мандельштама – Silentium:
Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
....................................
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
И здесь, в “Гойе”: “Она и музыка и слово”. И здесь слово в музыку вернулось.
Удивительно. Удивительно это тождество, когда стихи объясняют стихи.
И еще у Мандельштама же:
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.
Потом у него, у Вознесенского, звукопись будет часто перебивать и даже забивать звукомысль, звукосмысл. Но тут, повторяю, абсолютная “таинственность брака”, брака ЗВУКА и СМЫСЛА.
Не “шарада”:
“Мы – ямы...”
Мы – я – мы...
Я – Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое…
Потрясающе: тут вольно или невольно, осознанно или неосознанно ощущение, желание, требование – слышать, слушать. Тут ГЛАЗА нет. Глаз выклеван.
Я – Горе.
Я – голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года,
Я горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой...
Я – Гойя!
Повторю, обнажу – повторю не слова, обнажу – МЫСЛЬ: великолепный реванш звучащего слова, великолепное – на мгновение – второе пришествие Слова.
Я – Гойя
..................
Я – голос
...................
Я горло
Многие, очень многие любили, а потому и понимали Гойю, Гойю – живописца, графика, Гойю молчаливого, молчащего, Гойю беззвучного. Понимали, любили Гойю – глазами. Но никто не понял так точно Гойю кричащего. Голос Гойи. Колокол Гойи, Горло Гойи. Никто не услышал так точно и не передал нам так точно Гойю звуком. Никто его так не открыл нашему УХУ, уху нашей души, уху нашего сердца.
Сократ: “Заговори, чтобы я тебя увидел!”
––––-
9 января
ЧТО ТАКОЕ ПРОРОК? Вот так и поставить вопрос и для книги «Гойя – Достоевский. Два пророка, одолевшие бесов».
Вчера ночью вдруг засверлило: Достоевский – пророк... Достоевский – пророк... Достоевский – пророк...
ПРОРОК!
Да ведь не только, скажем, Бердяев, а и мы все, и я сам – “общеобразованцы”, откопавшие у Бердяева цитату о Достоевском-пророке.
Что такое пророк? Кто такой пророк?
В коренном – библейском – смысле – это человек, призванный говорить с людьми, его окружающими (1), говорить прямо (2) о вещах грядущих (3).
Просто предсказатель, чьи предсказания осуществились...
Сегодня ночью прочитал в “Знамени” (в юбилейном номере) у Г. Померанца: “Личность ближе к вечности. Вечность души, вечная память – все это про личность. Никогда не слыхал, чтобы вечную память пели Византии...” (с. 174).
Прочитал и вдруг вспомнил свою мысль, которая зачалась, зародилась, шевельнулась, но так и не родилась: никакой Достоевский не пророк. Не к народу он обращается, а к личности. Не народ он поднимает (на что?), а личность (на что?). На самосовершенствование, на самоответственность.
И даже Пушкинский пророк должен быть в этом смысле пересмотрен, в корне. Это не лозунг к “массам”, а скрытая исповедь, от личности к личности. Это – одновременно – и признание, покаяние, и искупление... самого Пушкина, а потому-то, пусть неосознанно, на нас, на тебя, на меня, на него, так пронзительно влияет. Но уж слишком забито такое восприятие восприятием лозунговым.
Вот и сделать главку: «Достоевский – Пророк?!» И полемически ответить: никакой он не пророк.
Все-таки тоньше, глубже, противоречивее: в нем, в Достоевском, пророк всю жизнь боролся с исповедальщиком, вернее, наоборот...
Предел этой борьбы – Речь о Пушкине.
“Достоевский – пророк...”
Умиляемся... Восхищаемся...= Самоумиляемся, самовосхищаемся, дескать, поняли, наконец (когда все осуществилось).
Классически “прогрессистский” самообман.
Потому-то он и “пророчен”, что предельно исповедален. Постольку пророчен, поскольку исповедален.
И не восхищаться своими пророчествами он вас, нас призывал, – вникнуть в его исповедальность.
Восхищаться пророчествами – аплодисменты, овация, чистейший духовный паразитизм.
Понять исповедальность как требование ответственности к личности: к тебе, ко мне, к нему, к труду, стало быть, неимоверному – ну куда нам до этого...
6 февраля
НАБОКОВ – ДОСТОЕВСКИЙ. Вообще-то это лишь часть огромного серьезного вопроса о ПРИНЦИПИАЛЬНОМ НЕПРИЯТИИ Достоевского.
Со стороны кого?
Список, надо сказать правду, велик, слишком велик.
От корифеев до ничтожеств. От образованнейших до невежд. От гениев и талантов до бездарностей, от седовласых до юнцов, от писателей-собратьев до ученых... Тут и Тургенев, Щедрин, Лесков, Толстой, Горький, Чехов, Бунин, и, может быть, как концентрация всей этой тенденции – Набоков. Тут и революционно-демократическая критика (поздний Белинский, Писарев, Зайцев, Михайловский), тут и марксистско-ленинская критика – не говоря о всяких Ермиловых, Гусах и пр., бесхарактерный Луначарский и Ленин. Тут и Ткачев... Тут и специфически религиозное, христианское, православное неприятие (К. Леонтьев...). Будем, конечно, исходить из искренности «отрицателей».
Есть, наверное, здесь какой-то “общий знаменатель”. Может быть, мы к нему и приблизимся, в конечном счете найдем его, вычислим. Однако начинать надо с наиконкретнейшего. Я и начну с человека, который без всяких обиняков, предельно точно сфокусировал неприятие Достоевского, с Набокова:
“Не скрою, мне страстно хочется Достоевского развенчать”. (В. Набоков Лекции по русской литературе. Изд. “Независимая газета”, 1996, с. 176.)
И провозглашает он это перед юными, перед студентами, перед иностранными, американскими студентами в своих лекциях. Призывает их тоже не любить, тоже развенчать, завещает им это.
Каждый из серьезных критиков обязательно отдает какую-то дань исключительности Достоевскому. Но всех их единит почти абсолютное отрицание Достоевского как художника.
Как бы понять природу этого искреннего неприятия, а порой искренней ненависти (враждебности)?
Резус-фактор какой-то. Вероятно, надо исходить и из своего, из своего искреннего “принципиального” неприятия Достоевского, когда мне было лет 20.
Действительно, есть три способ постижения человека, человека-художника:
Способ объективный ( sine ira et studio – без гнева и пристрастия). Он напоминает что-то вроде честного судебного процесса, но недаром на Руси спрашивали: “Судить по закону иль по совести?” По мне, так он, этот способ, – синоним равнодушия. Однако, отдадим ему дань: он по-своему очень плодотворен, без него нельзя обойтись, им надо овладеть. Тут есть свои таланты, и огромные.
Ненависть. Способ тоже очень-очень плодотворный. Ненависть, особенно питаемая завистью, чрезвычайно наблюдательна, трудолюбива, неутомима в поисках изъянов у ненавидимого, у нелюбимого. Здесь тоже есть свои таланты. (К слову: вот один из таких «ненавистников» – Бушин, пытавшийся в свое время «покусать» Булата Окуджаву... Вот бы написать о его «таланте»!). Способ этот, идущий от ненависти, тоже надо знать, изучать, использовать.
Любовь. В Библии, в Ветхом и Новом Заветах, сказано: “познание” и “любовь”. Сиречь одно и то же. “Он познал ея...”
Но ведь весь вопрос в том и состоит, почему один – объективен (равнодушен), другой – ненавидит, а третий – любит.
–––
6 августа
Умер Альфред Шнитке.
Я чувствую необходимым для себя – сказать Альфреду Гарриевичу, жене его Ире и людям, которые знают и не знают Шнитке.
Будет написано неисчислимое количество слов о гениальности его как композитора – в ряду самых великих от Баха до Шостаковича.
Тут я не судья.
ФОТО № 37
Я хочу и немножко имею право сказать о нем как о явлении беспрецедентно духовном. Да, да, да. Музыкально мне трудно понять и тем более обосновать, но я это чувствую. Чувствую, что он соединил невероятно органически и одновременно дисгармонически эпоху трех последних музыкальных веков. Конечно, насколько я его чувствую и насколько мои малые знания позволяют мне это чувствовать: в этих трех веках (а конечно, и дальше, и дольше) Шнитке был как чудесная рыба в своей воде. Конечно, он знал их всех, своих предшественников, обожал их… Кумиров из них не делая, на них основывался, их цитировал, “лжецитировал” иронически, трагически…
Суть: да, гениальный композитор, ушла от нас гениальная душа, гениальный дух.
Что такое музыка? Вспомним Блока. Все поэты – это словарные музыканты, которые, быть может, не успели, не сумели превратить слова в музыку.
Кто знает Шнитке? Проведите опрос. Ответ будет чудовищным, обескураживающим, обезоруживающим. Знают его маленькие – большие, большие на самом деле! – “кучки” из тех, что собираются в Доме композиторов, в Консерватории нашей и в консерваториях тамошних, но все равно, все равно остается вопрос: кто знает Шнитке? Кто переживает его смерть как трагедию всероссийскую, всегерманскую, всееврейскую, всемирную?
Главное, что для меня олицетворяет Шнитке, – это сосредоточение, не взаимоистребляющее, а взаимоугомоняющее, взаимогармонирующее, столь разных, казалось бы противоположных и даже антагонистических поисков духа. Еврей, немец, русский. Католик, святоотцом которого был православный отец Николай из церкви Ивана Воина...
Собор. Вот он, Шнитке, и есть Собор, да хотя бы только его Четвертая симфония и есть Собор. Невероятное сочетание мировых культур.
Что бы человек ни делал, каким бы гениальным “профессионалом” он ни был, все подытоживается, “резюмируется” в его ЛИЧНОСТИ. Мягчайший из мягчайших – каких я только знал, – это был кристальнейший из кристальнейших, твердейший из твердейших в своей неуклонной вере в примирение всех заблудших, в единении всех в добре. Человек, потрясавший своим абсолютно безыскусственно детским непониманием зла настолько, что поражал этим, пусть на мгновение, самых искушенных «специалистов» по злу.
17 сентября
Снова думаю об Альфреде (Шнитке). Очевидность, сверхочевидность “таланта”, “гения”...
Вот, “на старте” сто тысяч людей. К финалу приходят – один, два, три...
В чем дело? В чем тайна?.. Почему люди, будто бы равные на старте, приходят к разным финишам?.. В чем тут дело? Гены? Обстоятельства? Случайности? Воля – своя или чья-то?
Это сейчас меня мучает, как это ни парадоксально, в моем “контексте” сиюсекундного и навсегда вечного. Никогда еще в своей жизни я не хотел так отчуждаться от первого, злобосекундного, и обратиться к вечному...
Только, вероятно, художнику, поэту, композитору даровано совмещать это несовместимое, в самом себе. Без надрыва, без рационального самозадания, а естественно, натурально, как дышишь. Мы судим по результатам. Но ведь главное-то – причины, не плоды, а корни.
А.Г. Шнитке… Прости мне, Господи, но этот человек – подтверждение моей старой догадки, почему чисто гениальных людей больше всего в музыке и в математике. Да потому, что тут меньше всего искривляющих всё и вся заданий, а грубее говоря, меньше всего идеологии...
Какое я имею право “сметь свое суждение иметь” о музыке, о гении?
Ответ обратный: но тогда гении пишут только для гениев? Абсолютный геноцид для всех других? Но почему же, почему они – вдруг! – заставляют отзываться наши, смертные, не серебряные струны? Почему, почему же эти наши струны, медные и вялые, вдруг серебрятся, становятся волевыми и жаждущими, почему вдруг так точно, сердечно откликаются на гениальные ноты?.. Значит? Значит, они в нас задели что-то. Что? Как что? Что-то конгениальное. “Конгениальными” ничто нас не может сделать, кроме как совесть. Со-весть – весть обо всем человечестве сразу, о каждом человечке, где бы, когда бы он ни был.
Такое искусство не то что заставляет, не то что принуждает, а открывает нам нашу истинную сущность, а именно: быть, казаться, чувствовать, вжиться в любого другого.
...Более религиозного человека, чем Шнитке, на своем веку я не встречал, но и более нецерковного тоже. Разделяют людей не религии, а церкви. У него была абсолютная духовно-нравственная аксиома: равенство, тождество, радостное и спасительное, порыв же один – превзойти себя. Такова его Четвертая симфония, да и весь он от начала до конца. Его разнокровье только ускорило это открытие.
Музыка и власть – странное взаимоотношение. У нашей советской власти, лакейско-самозванной, был минусный абсолютный слух: она чуяла ноздрями или еще чем-то там, что все это не то, все это не так, а понять была не в состоянии. Но – вот противоречие – почему-то надо с этим не тем – считаться, а потому она, власть, гениальных композиторов только клеймила, но не уничтожала, как, например, писателей, поэтов. Это надо еще исследовать. Это действительно проблема, проблема тупой гениальности власти, тупого ее всевластия и тупого ее бессилия. Пусть это сначала покажется парадоксальным – как с теоретической физикой. Вот так же и с музыкой. Та и другая этим предельно заземленным прагматическим мозгам казалась – и правильно казалась – чем-то самым, самым притягательным и опасным.
Вдуматься, почему эта власть не могла расправиться так, как она расправилась со всеми другими, с физиками-теоретиками и с композиторами? Подневольно, бессознательно она чувствовала свое абсолютное бессилие перед ними и, одновременно, свою абсолютную зависимость от них. Без теоретической физики она никак не могла бы осуществить свою претензию на абсолютное господство, а без музыки – по природе своей не то что не лгущей, а призванной беспредельно обнажать искренность чувства – не могла предстать в своем лучезарном самозванстве.
Кстати, вульгарный довод: никто, кроме физиков-теоретиков и композиторов, не был так заклеймен и никто, кроме них, не получил так много Сталинских премий. Без Королевых, Туполевых нельзя – это-то ясно, но почему-то еще, черт возьми, нельзя и без этих – как их? – Шостаковичей, Прокофьевых, Хачатурянов...
Вот и отыскалось мое письмо Альфреду от 24 ноября 1994 года. Он тогда снова серьезно заболел.
«Дорогой Альфред Гарриевич!
Думая о Вас, слушая Вас (едва ли не с первого нашего знакомства и до сегодняшнего дня), я всегда чувствовал, но никак не мог вспомнить какой-то мотив, какие-то слова, прямо относящиеся, по-моему, к Вам. А сегодня – вдруг вспомнил. Это – надпись Анны Ахматовой на одной ее поэме («Триптих»), хотя надпись эта относится, конечно, ко всей ее поэзии, ко всей ее музыке, как и к Вашей.
Вот она:
И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленой веточкой повитой,
Изящна, равнодушна и горда…
Я не такой тебя когда-то знала,
И я не для того тебя спасала
Из месива кровавого тогда.
Не буду я делить с тобой удачу,
Я не ликую над тобой, а плачу,
И ты прекрасно знаешь почему.
И ночь идет, и сил осталось мало.
Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму.
Пусть Ваша музыка, вернувшись к Вам знаменитой, спасет Вас, как Вы ее спасали.
Никогда не забуду Ваших добрых слов ко мне в самую тяжелую для меня минуту4. Дай Вам Бог и Ирочке сил. Сердечный всем троим привет от моей Иры и от меня».
1999
25 января
ГОЙЯ – «ТОЛПА»
Странно, что только сегодня ночью сформулировалось, наконец, то, что знал я едва ли не с самого начала, когда открыл для себя Гойю.
Гойя художественно открыл «ТОЛПУ».
ФОТО 127 128 129
Взгляните под этим углом зрения на всего Гойю, особенно по контрасту с праздничными толпами начального Гойи – шпалеры, «Майский праздник в домике Сан Исидра», светлый майский день, мадридцы ликуют. И вдруг – «Паломничество Сан Исидра» в «черной живописи». Взгляните с этой точки зрения на «Бедствия войны», ну и на «Тавромахию»...
Слишком заиспанизировали Гойю. А ведь (не раз еще буду это повторять) чем глубже в себя копнешь, тем общее выходит. Толстой это говорил о личности. Но не то же самое ли надо сказать о народе, «национальной личности»? Чем национальней – тем общее, тем «интернациональней», тем космополитичнее. Понимаю, два последних слова замызганы, скомпрометированы, ну так очистим их, да и какое слово не замызгано? Какое не скомпрометировано?)
Автор «Восстания масс», т.е. восстания толпы, автор великолепной работы о Гойе, о национальном величии Гойи – и вдруг не увидел у этого Гойи восстания масс, восстания толпы, не догадался о всемирно-историческом значении своего великого национального художника. Я говорю об Ортеге-и-Гассете.
А Унамуно? Автор теории «испанизма», «кихотизма», убежденный в том, что не Испания должна быть европеизирована, а Европа – «кихотизирована», «испанизирована» (ср. наших славянофилов, Достоевского), не угадал в Гойе Дон Кихота. Но, убежден, как бы он обрадовался, увидев гойевский рисунок Дон Кихота, который и есть духовный автопортрет Гойи.
Гойя – Дон Кихот конца XVIII – начала XIX века. И надо же, буквально на днях, на ночах прочитал о бессмертии Дон Кихота, о том, что Дон Кихот не может умереть (а если умрет, то умрет и человечество), о том, что он лишь «развивается», прогрессирует – в своем ясновидческом безумии, в своей абсолютной верности абсолютным идеалам.
––––––-
5 марта
ПЛАНЫ, ПЛАНЫ, ПЛАНЫ….
Так как ни один политик в мире никогда не выполнял своих обещаний (не говоря о сроках), так как ни один писатель (кроме Солженицына) не выполнял своих обязательств перед издателями в срок, что уж говорить обо мне. Но вот на этот раз попытаюсь выполнить. Уточняю: в этом году.
1. Серия статей о Пушкине к 6 июня.
Серия – о Гойе.
О Радищеве (родился-то 31 августа 1749-го, т.е. – 250 лет со дня рождения).
Маленькое эссе о Гёте (он тоже родился в 1749 году).
А главное – закончить книгу о Достоевском.
Назрело-перезрело: последний расчет с коммунизмом. Хорошо бы издать к парламентским выборам брошюру листов на 10.
Если Бог поможет, обязан сделать.
Первое и самое главное: сделать, наконец, статью о любимом моем автопортрете Пушкина: СТАРИК!
ФОТО 110
Чисто лично: все до единого человеки, которым я показывал, рассказывал, дарил этот автопортрет, были потрясены не меньше, а иногда и больше (Шнитке), чем я сам. Но всеобщего потрясения не добился. Речь, конечно, не об удовлетворении тщеславия (этого вообще нет) и даже не об удовлетворении честолюбия (это, конечно, есть), но самое главное – в том, что сам пока оказался ниже, а если уж правду говорить до конца, – недостойным своего счастья, своего открытия. Чего тут судить-рядить, но ведь, даже написав о нем (об этом открытии) в книге («Достоевский и канун XXI века»), не сумел потрясти людей, не сумел заразить их самим этим фактом, его смыслом. Фактом абсолютно беспрецедентным. Подчеркиваю, только фактом: перед нами Пушкин, которого мы не то что не понимали, но просто не знали, не видели, не всмотрелись, просмотрели.
Самая главная наша тайна
Эпиграф: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, быть может, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (Достоевский).
Контрапункт = главная идея этого очерка, этого финала.
Что такое Россия? Что такое русский народ? Богоносец или дьяволоносец?
В последней фразе должно быть: «и вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» – тайну Пушкина. А в ней – тайну России, тайну мира, тайну самих себя.
Здесь же страничку-полстранички – об автопортретах (Сократ, Августин Блаженный, Гойя и в этом контексте – Пушкин).
Самопознание = самосознание – это и есть познание мира. Лев Толстой: чем конкретнее, тем общее.
31 марта
Моцарт и Сальери
Сегодняшнему дню – рад.
Канал «Культура»: 14.50. Сальери и Моцарт от В. Крайнева.
Разумеется, предчувственно восторгнулся, вдохновился: неужто?!
Просто – музыка. Просто музыка Сальери и Моцарта.
Счастье. Правда.
Когда-то, лет… да почти 30 назад, я задавал своим ребятам из 9 класса вопрос: а что, если (а это так и есть) Сальери не отравил Моцарта?
Они писали сочинение на эту тему.
Одна девочка: «Тогда надо перед каждым исполнением Моцарта исполнять какое-нибудь сочинение Сальери или, по крайней мере, давать совместные концерты их музыки...»
Вот чисто детская гениальность.
Гений – человек, сохранивший детскость.
И вдруг – вот: по очереди исполняют Сальери и Моцарта. Исполняет – В. Крайнев (фортепиано), дирижирует.... а еще – девочка (Кузнецова), и она-то именно исполняет Сальери, воплотив, таким образом, мечту той моей школьницы... Когда слушал, заметил, какой бросок глаза у дирижера и у той девочки, Кузнецовой, как встречаются их глаза. Вот идеал взаимопонимания, взаиморадости. Вот чудное мгновение. Мгновение!
–––––
(Пародийно) Наконец, я нашел определение самому себе. Я – читатель. Вот мое призвание, вот моя профессия (совпало). То есть паразит. Может быть (лукавлю), небесполезный: без паразитов не было бы и жизни, к вашему сведению.
Я читатель. Это – правда, правда. Я читаю музыку, скульптуру, картины, архитектуру, живопись, рисунки.
––––––––
Когда врешь серьезно, нужно трусливо и подло сводить концы с концами. Когда сочиняешь – весело, свободно...
–––––-
Нашел у И. Бродского и обрадовался – мое! – замысел важнее результата. Но уж тут-то претендентов – не счесть. Я – первый. А мысль серьезная.
Сначала – царапало, потом забылось. Потом снова – до раны. И все-таки не дошло. А теперь (перечитывая Н.Я. Мандельштам) – слова Осипа Мандельштама: «А кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?»
20 апреля
Эпиграф ко всему тому, что было, и ко всему, что будет:
И нежного слабей жестокий.
(Пушкин «Пир во время чумы»)
Вот ведь в чем загадка: мужики из мужиков, не боявшиеся никаких невзгод, никакой смерти, нарывавшиеся на нее, все эти Тухачевские, Блюхеры и пр. – сдались. Почему?
И почему самые «нежные», начиная с Ахматовой, – не сдались?
Пытки? Да. Это жуткий критерий. Жуткий критерий «истины» – для коммунистов и нацистов. Пределов пыток не может быть. Если не допытались, значит, «технология» пыток немножко отстала от возможностей.
Вы можете заставить меня говорить прямо противоположное тому, что я думаю, чем живу. Но все равно где-то на самом донышке, все равно останется моя правда. Я все равно буду знать, даже сдавшись под физическими пытками, что я – прав.
А вы?..
Вот же в чем разница.
Постсталинские негодяи, которые сегодня подбирают цитаты из Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Шостаковича – «во имя большевизма», действительно не отдают себе отчета в том, что слова этой «любви» вытребованы под пытками.
«И нежного слабей жестокий».
Самые «нежные» люди в нашей истории оказались самыми надежными потому, что всем своим существом, всей своей природой твердо знали очень простую вещь: только добро есть правда. Раскольников говорит Разумихину: «А знаешь, ты всех их добрей, а потому и умней».
Всегдашняя оглядка зла на добродетель.
9 сентября
Памяти Льва Разгона
Помер на 92-м.
Невозможно представить, что выпало на его долю. Невозможно представить, как это он все вынес.
Если одним словом о нем, то слово это – свет добра. Сколько его знаю, всегда светился – добром. Не только не озлобился – добрел.
Да, переменил убеждения, содрав кожу, ободрав ногти, не то что те, кто, подсюсюкивая всю жизнь господам, вдруг устроил сейчас общий союз коммунистов с нацистами.
Его любил Андрей Дмитриевич Сахаров. Награда – выше нет. Его любил Булат Окуджава и посвятил ему такое:
Песенка Льва Разгона
– Лева как ты молодо выглядишь!
– А меня долго держали в холодильнике...
(в лагере)
Я долго лежал в холодильнике,
омыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
а я до сих пор молодой.
Преследовал Север угрозою
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозою –
пусть маленький, но феномен.
По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.
Почти профессией становится – писать некрологи о хороших людях. Одно только хорошо, что – о хороших.
2 января
Поздравил с Новым годом Семена Израилевича (Липкина) и Инну и признался им, что давно написал письмо, которое так и не решился отправить.
С.И. простодушно удивился и попросил сделать это.
…маленькая предыстория (из дневника 1998 года):
ФОТО 090
10 июня
Липкин и Ахматова –
«Техник-Интендант»
Месяц или полмесяца назад, перебирая книги, у кого-то прочел о том, что, когда С.И. Липкин читал А.А. Ахматовой поэму “Техник-интендант”, та, та (!) вдруг заплакала. Перечитал поэму именно из-за потрясшего меня факта: А.А.А. чрезвычайно скупа была на слезы... Так где же она их пролила? Как теперь понимаю, сразу попался в мышеловку: ну не могла же она, она! сразу пролить слезу. Это должно было быть где-то в конце. Но искать начал с первой строки. Делал отметины. Всего – пять.
“Техник-интендант”. Из самого, самого что ни на есть непоэтического, даже, я бы сказал, антипоэтического “предмета” – создать, сотворить, сделать такую фантастически умно-сердечную поэму... Открыть гения в гении – какая банальность. Открыть в гении человека – это уже продвижение. Но открыть в самом ничтожнейшем из ничтожнейших – человека! Вот ведь в чем дело...
С.И. Липкин доводит это “противоречие” до, казалось бы, абсолютного абсурда. Какие непоэтические, антипоэтические слова, да еще через дефис – техник-интендант. С.И. творит, делает – ИСТИННУЮ ПОЭМУ.
Позвонил Стасику Рассадину. Рассказал ему обо всем.
– А ты позвони ему.
– Мне как-то неловко
Сегодня вдруг звонок С.Р. Он рассказал С.И.Л. об этом, тот был изумлен и обрадован и – вспомнил: концовка шестой главы... Слова С.Р. (то есть слова С.И.Л., сказанные ему): «Накапливалось, накапливалось и вдруг прорвалось... вот этими слезами».
Бросился искать: есть!
А вот мое письмо:
«Дорогой Семен Израилевич!
Когда-то я Вам сказал, что начал писать Вам письмо после прочтения «Техника-интенданта». Почему-то не отправил. Как теперь понимаю – испугался, дурачок, своей детской открытости. Перепечатываю его дословно.
28 июня 1998. Ночью.
Прочитал (перечитал) «Техника-интенданта».
Либо мгновенно поумнел, либо поглупел. Это, впрочем, одно и то же, если искренне.
Вот главное ощущение (не мысль даже): я как-то поразился: в XX веке у поэтов (настоящих) не стало – почти (исключения – наперечет) – поэм. А ведь лучшая русская проза родилась («Евгений Онегин») поэмой, как лучшая русская поэма («Мертвые души») – прозой.
И вот – читаю «Техника-интенданта». Из самого что ни на есть «непоэтического», даже «антипоэтического» «предмета» (прошу прощения за перебор кавычек ) – создать, сотворить такую фантастически мудро-сердечную поэму, в которой навсегда запомнишь всех персонажей… и, главное, техника-интенданта и ту девчушку его (лицо в окошке!) –
Поголовная смерть одного, даже малого племени
есть бесславный конец всего человечества!
Останови состав, останови!
Иначе – ты виноват, ты, ты, ты виноват!..»
А еще главнее – самого автора, все это пережившего, взявшего в душу свою и отдавшего все это – тебе...
Белкин (Пушкин), Башмачкин (Гоголь), Макар Девушкин (Достоевский), «техник-интендант» (С. Липкин)... Поголовная смерть этих «песчинок тоже есть бесславная смерть всего человечества...
Читать ее, поэму, больно физически. Почти невыносимо. И этот лейтмотив: «Но ты об этом еще ничего не знаешь. Ты еще в Краснодаре, где пока весна...»
И плач-всхлип А.А.А. ... Страшно вымолвить, но какая еще награда счастливее и страшнее.
И это смешение времен: с площадки предвоенного трамвая – в судьбу...
Анри Пуанкаре, великий математик, заметил: чем короче посылка, тем больше следствий...
Истин на свете, т.е. того, что люди, человеки почитают за истину, на самом деле всего две: есть Бог – нет Бога... Все остальное – отсюда. У Вас это сказано навсегда: «...как ни изворачивайся, а надо признать: если нет Бога, то человек – зверь. А разве Бог есть? Монах и тот в него не верит – только хочет верить, потому что понял: человек минус Бог равняется фашисту. Формула».
Когда Маркс, ликуя, цитирует – «По правде, всех богов я ненавижу», когда Ленин изрекает – «Всякий боженька есть труположество» (бр-р...), они, сдуру, выдали себя.
Дорогая Инна! Письмо Вам я тоже начал писать и скоро пришлю.
Хотя редко мы встречаемся, но, наверное, не надо доказывать, что Вы оба для нас – очень родные. Спасибо».
1 февраля
С утра позвонил Карену Степаняну (он все знает о Достоевском). Спросил:
– Кто-нибудь сравнивал Достоевского с Льюисом Кэрроллом (две Алисы)?
– Не знаю, не читал, не слышал.
– Помните, как мы с вами однажды говорили (да я об этом и писал), что если взять все до единого определения сновидений у Достоевского, то все они до единого окажутся самоопределениями его, Достоевского, искусства, художества (особенно – его, потому что, в сущности, это – самоопределение, самоидентификация, самосознание и самочувствование искусства, художества как такового: «перепрыгиваешь через пространство и время и сосредотачиваешься на точках, о которых грезит сердце…» (из «Сна смешного человека»). Но это ведь то, чем пронизана вся Библия в ее Ветхом и Новом Заветах, то, чем пронизана вся литература – наверное, не только западная, но и восточная, – Гомер, Мильтон, Шекспир, Гёте, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой…
7 февраля
Помимо всего прочего, существенное отличие Достоевского от Толстого в том, что большей частью Достоевский, так сказать, несравненно «ФОНЕТИЧНЕЕ» Толстого.
Хотя, конечно, диалоги Толстого превосходны, а все-таки : Достоевский насквозь диалогичен (М.М.Бахтин об этом – «внутриатомный контрапункт голосов»).
Кстати, Достоевскому здесь несказанно повезло в том, что с октября 1866 года он стал диктовать свои произведения Анне Григорьевне – «стенографке» – и стал еще более фонетичен (вспомнить, как он входил в речь, в голос Раскольникова еще на даче в Люблине). Диалоги Достоевского несравненно «РВАНЕЕ», чем у Толстого.
Мережковский: Толстого видишь, Достоевского слышишь.
Рогожин – князю Мышкину: «Я – голосу твоему верю» (курсив мой – Ю.К.).
Очень помогает понять это глубже О. Мандельштам.
«У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса. А кругом густопсовая сволочь пишет, какой я, к черту, писатель! Пошли вон, дураки!..» («Четвертая проза») (Цитирую по моей книжке фиолетовой, с. 309).
Мы только с голоса поймем,
Что там царапало, боролось...
(эпиграф к «Грифельной оде»)
О нем можно, должно сказать его же словами – «неисправимый звуколюб» («Не искушай чужих наречий»).
Мандельштам:
…Довольно полнозвучья, –
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
О. Мандельштам «Ламарк».
Сравни: Ольга Берггольц о своем страшном сне (в эпилоге «Дневных звезд»):
«... часто снится мне будущая война... Тут главный страх в том, что все происходит бесшумно. Это начало всеобщей гибели, и прежде всего в мире умер звук. Никто и ничто не издает ни единого звука... Все безмолвно, все происходит в уже мертвой тишине... Планета глуха и нема».
––––––––
Подлинно великие, глобальные открытия происходят все-таки не из удовлетворения простого любопытства, а тогда, когда речь идет о спасении. Когда человек, животное, если угодно (речь идет о мутациях), загнано в обстановку абсолютной безвыходности и нужно что-то сделать, чтобы спастись.
Мне кажется, Достоевский и был в такой ситуации безвыходности, невероятной степени понимания, с нашей до сих пор несравнимой, – понимания, что мир идет к гибели. По таким-то причинам... соотношение духовного, социального, экономического. И еще неизвестно, есть тот свет или нет.
2 апреля
Давно наклюнулся образ, да все забывал не то что записать, но даже Ире сказать: думать, мыслить, искать мысли – все равно что ходить по грибы. Бывает, мысли = мыслята, вроде маслят, разом много-много. Бывают – подберезовики, подосиновики, а то вдруг – белый гриб мощный или груздь. А то вдруг ложные опята, мысли-поганки, мухоморы красивые.
Май
Умер Олег Ефремов. Последние месяцы тяжело болел. Виделись с ним мало. На юбилее Егора Яковлева 14 марта за столом. Тяжело дышал, с ним – помощница и кислородный аппарат. Тем не менее выступил хорошо – как непобедимый шестидесятник, как лидер.
А год назад неожиданно приехал к нам в Переделкино. Устроили «мальчишник»: отправились втроем – Олег, Миша Рощин и я – в затрапезный ресторанчик в Новопеределкино. Почти не было воспоминаний. Больше – планы. Олег говорил, что хочет поставить «маленькие трагедии» Пушкина, особенно увлеченно рассказывал о том, как видится ему на сцене «Моцарт и Сальери».
Познакомились с ним так давно, что точно и не помню, наверно в те «оттепельные» дни 60-х, когда и рождался «Современник», когда собирались по ночам в его театре, уже после спектакля. Олег тогда репетировал «Случай в Виши». Никогда не забуду этих тайных ночных репетиций. Одиноко, в сторонке сидел Александр Исаевич Солженицын. Олег уже мечтал поставить самого Солженицына, интуитивно догадываясь, что в нем зреет, созревает родное. Да и он, Солженицын, присматривался к театру, мечтал о постановке в нем своей пьесы «Олень и шалашовка».
Конечно, там, «наверху», спектакль «Случай в Виши» запретили. Ну что ж, там запретили, а здесь погоревали, понегодовали и снова за свое, продолжали работать – весело, дерзко, с азартом и всегда против официального течения. Пусть иногда мощный встречный поток и сносил, тормозил и сколько раз пытался выбросить театр на мель – срывались с мели, выгребали еще сильнее и всегда шли своим путем.
«Главнокомандующие» их боялись, от них оборонялись, а наступали-то они. И где теперь эти «главнокомандующие»?.. За честь считают побывать в «Современнике».
По-настоящему мы сблизились с Олегом, когда вместе работали на литературном канале телевидения, делали телеспектакль «Лицей, который не кончается…». Ему, прирожденному лидеру, очень понравилось мое предложение – донести до ребят идеи юношеской дружбы, братства, непредательства.
При жизни не следовали мы завету Булата – «Давайте говорить друг другу комплименты»… Больше пили, хохмили, разыгрывали друг друга… Конечно, всегда говорил правду о театральных удачах и провалах. «Медная бабушка», «Сталевары», «Сон разума», «Соло для часов с боем»…
А вот теперь хочу написать о нем… впервые... Господи, почему при жизни не сделал? Олег умер.
ФОТО 134
Памяти Олега Ефремова
М о ц а р т
Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство –
Две вещи несовместные. Не правда ль?
С а л ь е р и:
Ты думаешь?
(Бросает яд в стакан Моцарта.)
Ну, пей же.
Вот эпиграф к эпохе, в которой жил и сумел выжить Олег Ефремов. Выпил – и не умер, организм могучий спас, хотя яд немного отравил.
По мне, так есть два «намёчных» (слово Достоевского) образа Олега Ефремова. Первый – Федор Кузькин («Живой») из гениального рассказа Бориса Можаева. Когда-то (засвидетельствовано Юрием Петровичем Любимовым) Петр Леонидович Капица сам назвался Федором Кузькиным, потому что сумел обыграть изуверскую власть, обыграть юмором, простым рассудком мудрого мужика, с хитрецой. А второй «намёчный» образ – это невероятное, удивительнейшее и органичнейшее сочетание Дон Кихота и Санчо Пансы в одном лице.
Олег Ефремов – великая утопическая попытка соединить политику и культуру.
Он, может быть, как никто другой, именно в силу театрального призвания своего, – предельное воплощение так называемого «шестидесятничества», с его идеализмом, переходящим в «идиотство» (опять-таки в достоевском смысле слова). Великое воплощение утопической попытки – соединить политику (безобразие – от черта) с искусством (красотой – от Бога). Попытка титаническая и трагическая.
Трилогия: «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики»…
И Федор Тютчев, «14-е декабря 1825 года»:
О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
…………
Гениальный протуберанец – созданный им театр «Современник» – прорвался в самое захудалое время. Кто-то подсчитает: ни у кого не было даже взвода или роты, а у тебя – полк целый таких безгранично любящих тебя солдат, равных тебе, от Олега Табакова до Гали Волчек. По Окуджаве:
Все маршалы, все рядовые…
И общая участь на всех.
А потом вдруг, уже во МХАТе, – «Сталевары»…
Когда я был на этом последнем спектакле, произошел трагикомический эпизод. «Пламенный» (буквально, кто помнит) финал. Зал молчит от ощущения неловкой патетичности. И вдруг раздаются хлопки. Хлопали только два человека: сидевший в правой, «правительственной», ложе М.А. Суслов и в четвертом ряду – В.М. Молотов. Все остальные молчали, а эти хлопали, хлопали, хлопали, не глядя друг на друга, как бы боясь остановиться первым. Было неловко, страшновато и смешно. Друг на друга они не смотрели. Такой вот финал трагедии, трагикомедии, который, как я помню, потряс очень любивших Олега Лакшиных (мы сидели рядом). Кстати, не зря же он, Олег, взял В. Лакшина завлитом МХАТа, как патриархи того же МХАТа взяли таковым же в свое время М.А. Булгакова.
…И вдруг – тишайший, надежнейший Чехов.
И вдруг – «Капричос» Гойи («Сон разума» испанского драматурга Буэро Вальехо).
Ефремов жил как бы одновременно и в «Сне разума», просыпался в тихой чеховской грозе и в гойевском оглушающем аду. Вот «амплитуда» его сомнений, колебаний, поисков. И, кажется, нашел, начал находить выход.
Легенда – навсегда, не меньше, чем Фаина Раневская.
Прирожденный лидер, умевший беспрерывно обновляться.
Олег, Олег… Я помню тебя проходившим по «Шереметьево-2», по возвращении из Испании в 1972 году, без всяких паспортов и виз, как бы сквозь стены и кордоны, все тебя узнавали, все любили. Любовь буквально излучалась и от тебя, и на тебя. Ты приехал с идеей поставить «Сон разума» испанского драматурга Буэро Вальехо. Ты из своего идеализма вдруг окунулся в гойевский ад и… выплыл.
А Буэро Вальехо «они», там, наверху, даже не пустили в Москву на премьеру его пьесы.
.
Самоубийственный идеализм?
Нет, все-таки – самоспасение художника.
Удивительная судьба – быть и остаться победителем, и веселым победителем в самые невеселые времена.
Приехал как-то в театр один идеолог из ЦК и начал доказывать неизбежную прогрессивность оккупации Чехословакии (1968 год). А ты сказал: «Правильно, правильно, но ведь и Китай тоже против нас, давайте и его прогрессивно оккупируем!..»
Преудивительное качество – побеждать даже идиотов.
И еще: заговорил я о протуберанцах «Современника». Но не забудем, не забудем никогда его приход во МХАТ, не забудем его «Соло для часов с боем». Гениальный ансамбль гениальных мхатовских стариков. Склеил, говоря словами Мандельштама, перебитые позвонки поколений.
20 октября
Оглядываешься на ТВ, смотришь (даже «Культуру») – и приходишь в отчаяние и силы тают или злобятся (что неправо).
ФОТО 115
И вдруг – Лидия Либединская, всего 15 минут. Чудесный, личный гимн Серебряному веку. И силы возвращаются, увеличиваются даже. Как прекрасно, особенно – воплощение.
Вот человек, который этих гениев видел. Многим из них переломали хребты, но не смогли, как сейчас выясняется, сжить со света. Она узнала их девочкой, а это, может быть, самое главное, самое точное духовное познание. И она передала нам это чудное восприятие свое – непосредственно. И то, о чем страдал Мандельштам, – перебитые позвонки культуры – начали сращиваться.
Эти 15 минут были выше, выше (даже сравнивать, даже противопоставлять не хочется) сотен бесконечных передач, убивающих культуру.
«Слово плоть бысть…» – излюбленное выражение Достоевского, излюбленная мысль – чувство из Библии. Лидия Либединская и есть «плоть бысть». Она передает нам культуру, как здоровую кровь вливает. Как А.А. Ахматова, как Л.К. Чуковская, как…
Оказывается: не убили, не добили культуру – выживает. Дай Бог, может, и выживет.
Конечно, конечно, книги воплощают культуру, но – больше всего – живые люди.
1 декабря
23-2-4 ноября 2000 г. в городке Пенне (Италия) проходил международный конгресс, посвященный творчеству А.И. Солженицына. (У них, кажется, третий, а у нас и одного не припомню.) Были удивительно глубокие, в смысле любви-понимания, доклады: Витторио Страда (Италия), Жорж Нива (Франция), наши – Андрей Зубов, Евгений Сидоров… Жалко, не было Никиты Струве, одного из самых проникновенных знатоков творчества АИС. Все это будет опубликовано, и по-итальянски. Вот маленький отрывок из моего выступления.
ПОХОД, ЗАДУМАННЫЙ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ…
( От «Одного дня Ивана Денисовича» до «Красного колеса»)
Знаете ли вы, сколь может быть силен один человек?
(Из Ф. Достоевского)
Во-первых, когда в ноябре 1962-го была опубликована эта повесть, потрясение – и у нас, и во всем мире – было беспримерным. Пожалуй, никогда еще первое произведение безвестного доселе автора не производило столь всеобщего и оглушающего, просветляющего и прозревающего впечатления, столь небывалого и непосредственного отклика и столь небывалого раскола в оценках.
Но далеко не сразу и далеко не все (даже и до сих пор) поняли, что произошла не какая-то социально-политическая сенсация в разоблачении сталинизма, а настоящий взрыв духовно-нравственно-религиозного сознания, взрыв – посредством художественного слова. Словно взрыв первой атомной бомбы, только несущей не смерть, а освобождение, воскрешение, жизнь.
Такого еще не бывало – ни при появлении «Страданий молодого Вертера» Гёте, ни при появлении «Руслана и Людмилы» Пушкина, «Бедных людей» Достоевского или «Детства. Отрочества. Юности» Толстого.
Во-вторых: не бывало, чтобы такое произведение было опубликовано с благословения властей (Хрущев), ничегошеньки, в сущности, в нем не понявших, но попытавшихся использовать его в своих сиюминутных, примитивных и сугубо политических расчетах – и так просчитавшихся.
Простой учитель математики из Рязани обыграл всех этих «супергроссмейстеров» политических интриг. Они, эти «верхи» (далеко не все, впрочем), не разобравшись, сдуру, чуть не пожаловали ему даже Ленинскую премию (в апреле 64-го). Вот была бы потеха – или сразу, если бы он отказался, или позже, если бы принял, что было бы вполне и возможно: премия эта на какое-то время прикрыла бы его, оттянула или смягчила будущую, абсолютно неизбежную травлю. А если б даже и дали, а он бы и взял, скандал-потеха случился бы неминуемо позже, когда дарители сообразили бы наконец, что наступили на грабли. Так или иначе – не дали, но могли дать…
В-третьих. Об этом-то уж совсем никто не догадывался: это был лишь первый («разведывательный») ход в небывалой шахматной партии, рассчитанной на многие сотни ходов вперед, – против многолетних радостных олигофренов. Точнее: сделан был лишь первый шаг неслыханно дерзкого и мудрого многодесятилетнего похода.
Никто не догадывался – тем более! – что у автора уже был выработан не поверхностно-политический, а мировоззренчески-духовный, стратегический план этого похода – похода одного против многомиллионной армии тех, кого Достоевский называл «бесами», создавшими, казалось, абсолютно неприступную крепость-систему на полмира. В то время как армия одиночки-полководца и все его оружие было только одно: Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Е С Л О В О – К Н И Г И, только К Н И Г И.
Никто не знал, что план этот начал грезиться ему еще с 18 ноября 1936 года (ср. тогдашний мираж и нынешнюю реальность «Красного колеса»)… Наконец, никто не знал, что слова – книги эти (около десяти) были уже написаны к ноябрю 62-го. Что уже был задуман «Раковый корпус» (1955-й), что задуман и начат «Архипелаг ГУЛАг» (1958-й) и что в 63-м началась работа и над «Красным колесом» (название определится в 65-м). С десяток батальонов и полков стояли наготове, в резерве, ждали только своего часа-приказа – выступать, а главные, ударные армии («Архипелаг ГУЛАг» и «Красное колесо») уже формировались.
Никто, никто не знал об этом, кроме самого А.И.С.
Не было у самого Гёте в резерве, когда он писал своего «Вертера», – «Фауста». Не было в резерве и у Пушкина юного ни «Евгения Онегина», ни «Бориса Годунова». И у Толстого не было во время «Детства…» – «Войны и мира»…
«Один день…» – лишь малюсенькая верхушечка айсберга, о который разобьется «Титаник» коммунизма.
О, если б «они» там, наверху, знали обо всем этом! Уж они бы его – в пыль. Спасала (до поры до времени) жесточайшая конспирация (конспирация правды – куда там конспирации лжи, по Ленину).
Тем временем А.И.С. начал обрастать добровольными помощниками, не говоря о десятках, если не сотнях тысяч сторонников. Разбудил, всколыхнул он – и проснулась, всколыхнулась СОВЕСТЬ, СО-ВЕСТЬ. ВЕСТЬ главным образом о всеобщих бедах наших и чуть-чутошная весточка о наших неистребимых надеждах на лучшее.
В походе А.И.С. бывали отклонения, ошибки, даже провалы. (Но… попробуйте, если хватит воображения и опыта, представить себя на его месте.)
С середины 60-х начались запреты на его книги, уже принятые в редакциях, арест архивов, непрерывная слежка, была попытка убийства его при «гуманнейшем» Андропове, наконец, арест и высылка за границу (февраль 74-го).
Но, несмотря ни на что, главная цель была достигнута.
В июле 90-го он мог, наконец, сказать: «Часы коммунизма свое отбили».
Убежден: без А.И.С. они протикали бы подольше.
Но сразу же за приведенными словами, в разгар нарастающей эйфории от приближавшейся победы, он сказал и другие слова: «Но бетонная постройка его еще не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под ее развалинами».
Все это сбывается. Пока.
Означает ли визит Президента к А.И.С. начало «просвещенного абсолютизма»?
Скоро увидим.
2002
4 января
Идем в гости к Фазилю и Тоне Искандер. Приготовили им в подарок фотокопию (компьютерную) иконы в рамке с надписью.
РОДНЫМ ИСКАНДЕРАМ:
СНИМОК ИКОНЫ
ИЗ ПОСЛЕДНЕГО КАБИНЕТА ДОСТОЕВСКОГО.
ОН И УМЕР С НЕЙ В РУКАХ.
ПОДАРОК ЕМУ ОТ НЕИЗВЕСТНОГО БАТЮШКИ
НЕЗАДОЛГО ДО ЕГО СМЕРТИ:
«БОЖЬЯ МАТЕРЬ УТЕШИТЕЛЬНИЦА ВСЕХ СКОРБЯЩИХ»
А НАД ДИВАНОМ, НА КОТОРОМ УМЕР Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ,
ВИСЕЛА РЕПРОДУКЦИЯ
МАДОННЫ РАФАЭЛЯ.
Вспомнился один из первых «перестроечных» вечеров в ЦДЛ. Он был посвящен Фазилю Искандеру.
ФОТО 033
Полез в свой дневник: прав, 26 октября 1986 г. Записал конспект своего выступления.
…Сегодня у нас праздник. Как нынче говорится, «социальной справедливости». Я бы сказал по-иному – духовной справедливости. Праздник духовного труда. Дань бескорыстному духовному труду.
…Лирическая эпопея о Сандро, если вдуматься, ничуть не уступает столь высоко оцененному у нас роману «Сто лет одиночества» Маркеса. Читаешь Фазиля и будто после душной атмосферы города, его пропыленной суетной жизни попадаешь куда-то в горы, к морю, к солнцу… «успокоиваешься», как говорили в XIX веке.
… Фазилю – 57. Этот человек-писатель ни разу не солгал. А сегодня пора сказать: «Это классик нашей литературы».
…Вот иду с этими мыслями к живому классику.
17 января
Утром «Эхо Москвы» сообщило: в ночь умер писатель Юрий Давыдов. Удар по темечку. Накануне, вечером, звонила Слава, уходила от него из больницы, шутил…
Каждый человек оставляет на Земле свой след, автопортрет, тем более писатель. И даже если он всю свою жизнь затратил на петляние, на заметание своих следов, на ретушировку автопортрета, со временем, в конечном счете следы эти выявляются все отчетливее, автопортрет этот вырисовывается все непригляднее.
Пройти по следам Юрия Давыдова – очень трудное счастье, тем более трудное, что они прямые, что нет здесь ни лисьих, ни шакальих, ни волчьих ходов. Он никогда не рисовал специально автопортрет (и мысли такой не бывало). Но какой прекрасный получился…
Самовыражение тем точнее и надежнее, чем меньше об этом задумываешься.
Для нас, которым за 70, годы все быстрее вырываются, как листочки из календаря. Кажется, вчера только писал статью к его 75-летию. А сегодня вот – пиши некролог. Вчера писал радостно, счастливо, с надеждой, все-таки оправдавшейся: главный-то свой роман – «Бестселлер», роман бездонный, вобравший всю его жизнь и всю нашу жизнь за два века, – он успел и написать, и напечатать. Спас его, слава Богу, и М.И. Давыдов, врач, подаривший ему 7 лет, но спас его и сам этот роман, без которого он бы не выжил, будь у него в запасе хоть еще четверть века.
А еще Давыдов задумывал (слышал от него) роман – как бы это сказать? – роман-рассказ о замысле, что-то вроде «По российским подворьям», где, собственно, и лепится наша история.
Как недостает нам не только его самого, но и его любимых героев – реальных и сочиненных, – неистового правдолюбца, правдоохотника Бурцева, «Глебушки» (Успенского), того же Усольцева.
Был он мне старшим братом, от которого меня отделяло всего-то 6 лет: 6 лет войны и сталинских лагерей. Навсегда запомнил не укоризненный, не осуждающий, а какой-то изучающий внимательный взгляд, когда я посетовал, что вот, дескать, не воевал и не сидел. От него тогда впервые и услышал пушкинское: «Говорят, несчастие – хорошая школа. Но счастие есть лучший университет…»
Подходишь к его даче – издалека слышится гомерический смех. Праздник какой-то небывалый разгорается. Подходишь ближе, прислушиваешься. А это он о войне, о лагерях своих рассказывает. Поразительно: не злобно, не угрюмо (кто слышал, тот помнит), а… весело. Как мало кто, понимал смешное ничтожество злодейства, которое, пыжась самоутвердиться, демонизирует себя, больше всего на свете боясь показаться смешным.
Как-то процитировал ему с горечью Достоевского: дескать, Крым извечно был наш. А он мне из Грибоедова: «Времен Очакова и покоренья Крыма…»
Одна из последних с ним встреч в Переделкине. С месяц назад пришли к нему, и он нам взахлеб, с какой-то неподдельно моцартианской радостью стал читать роман А. Чудакова…
Он славно и самоотверженно поработал на память о России, т.е. на возрождение ее совести. Может быть, благодаря таким, как он, мы и в самом деле прислушаемся, поймем. А нет – так что ж?
Тогда взыскивай только с себя, а не ищи врагов «унутренних» и «унешних».
Без таких, как Юрий Давыдов, нам себя не понять и не исправить. Искать, по пословице, надо не в селе, а в себе.
2003
24 июня.
Идем к Инне Лиснянской. У нее сегодня день рождения. Написалось стихотворение.
ИННЕ,
ставшей нам очень родной
Огонь духовный в темном мире нашем
Поддерживают вовсе не вулканы, не пожары
И даже не тайные костры в лесах далеких и глухих,
А кто-то рядом-рядом, как свечка – руку протяни.
Одна из них потухла.
Чем тоньше, тем сильней другая – ты.
Оставил тебя Бог – светить.
3 июля
Утром пришло ошеломившее нас известие: умер Юрий Щекочихин. 9 июня отмечали его 53-летие. Как всегда, в его дворике собралось много друзей. Юра был весел, шутил.
ФОТО 0 85
Похоронили на переделкинском кладбище рядом с другом, другим Юрой – Давыдовым.
У гроба стояли Горбачев, Явлинский, в изголовье – за батюшкой – Лукин, да еще кто-то держал большой портрет. Если бы взглянуть на покойника, не зная Юры, не видя его, улыбающегося с портрета, можно было бы сойти с ума в догадках: кого хоронят? Лежал старик 90 лет с обуглившимся лицом.
…Сейчас я, конечно, не могу найти соответствующих слов. Как описать неожиданный удар по темечку? От неожиданности смерти этого человека – теряешь слова. Хотя, признаюсь, одновременно я все время его предупреждал: «Лезешь на рожон. Даже ты не можешь представить себе, как они, которых ты не боишься, боятся тебя. Какие планы они вынашивают». Отхохатывался и по-прежнему пер на этот самый рожон. Как там, как это все случилось, мы сейчас не знаем и, может быть, не узнаем никогда.
Я не могу найти этих соответствующих слов просто потому, что у меня неожиданно умер младший брат или старший сын.
Самое лучезарное – это когда он приезжал – нежданно-негаданно. Но всегда ожидаемо. Обычно – к Юрию Давыдову. Мы сидели втроем… Какие тут «конфликты» «отцов и детей»? Мы – «старики» – любовались им, завидовали его «перпетууммобильности», а он никогда не забывал на своих памятных для всех дачных праздниках, не забывал помянуть добром стариков-шестидесятников. Неожиданно и радостно он и для нас, стариков, сделался учителем и образцом.
ФОТО 085 А
Только сейчас понимаешь: буквально сжигал себя, сгорал с двух концов.
Его даже не с кем сравнивать. Разве только с Алесем Адамовичем – по незамедлительно мгновенной безоглядно-бесстрашной и рабоче-деловой реакции на любую ложь и подлость. Сразу бросался, и всегда очертя голову, в самую гущу.
Сколько он искал, отыскивал, отыскал и вывел в свет еще более молодых, чем он сам. Сколько влюбленных в него учеников, преданных, зараженных его бескорыстной энергией (хотя зачем лукавить? – были, как всегда и положено, неблагодарности и предательство).
Абсолютная неподкупность. Никогда никаких задних мыслей (урвать, прихватить). Только одно: докопаться до истины, отыскать кровопийц клещей, выколупать, выцарапать их и показать всем на ладошке – как корчатся они на свету, как представляются «божьими коровками» и мечтают снова забраться нам всем под кожу и снова укусить – отравить своим ядом.
Как его на все хватало – на книги, на сотни статей, на депутатские запросы во все инстанции, на бесконечные поездки в горячие точки… от той информации, которой он был перенасыщен, можно было, наверное, сойти с ума. А он никогда не терял присутствия духа и снова и снова ввязывался в борьбу со всеми этими «клещами».
Не скрою: радостно было смотреть и слушать, когда говорили эти два человека, говорили заикаясь, неуклюже, не по-демосфеновски, но которым все честные и совестливые верили, а все клещеобразные корчились и вопили. (Я имею в виду Юру Щекочихина и А.Д. Сахарова.)
ФОТО № 21
Я в свое время навидался – по горло – депутатов, у которых вся энергия, кстати очень даже и очень немалая, вся энергия уходила на то, чтобы что-нибудь да прихватить. Этот жил как гениальный бомж, но на самом верху духа. Бытовая неустроенность, неухоженность, а думал, чувствовал только главное. Всегда в его доме жили неустроенные люди. А его праздники – это легенда – сколько у него было друзей, которых он спас и которые ему помогали. Он воплотил снятие проблемы отцов и детей: и те и другие любили его одинаково.
У них, у мерзавцев, сейчас праздник. У друзей – горе невосполнимое. Верю, что праздник первых – ненадолго: Юра породил слишком много себе подобных.
Самое печальное – старым хоронить молодых.
22 июля
Приехал к нам Юлик Ким. Из дальних странствий возвратясь… Привез мне наградную грамоту – песенку:
Дается Грамота сия
Карякину Ю.Ф.
За то, что он
В день изо дня
Ведет великий сев
Разумного,
Доброго,
Вечного,
Прекрасного
И человечного,
И, в ожидании плодов,
Дальнейших ждем
Его трудов!
22 июля 2003года
Подпись: Ю. Ким
ФОТО 003
Потом много пел – самозабвенно, щедро, талантливо…
Юлик для меня – инопланетянин: сколько кровей национальных, сколько кровей социальных, духовных… и он этими кровями связан. Он стоит на какой-то точке (я это только чувствую), с которой видно все куда глубже, шире, точнее, чем нам всем сегодняшним и тутошним. Да, у него другая точка зрения, точка видения… Ему куда труднее и смешнее на нас глядеть и грустнеть. Он отсюда и – оттуда.
История человечества с его точки зрения (да так и должно быть) и смешна, и трагична. Трагична и смешна. Тут и слезы, и кровь, и смех неодолимый… прости меня, Господи!
Многокровие открывает, вернее, приоткрывает нам – несравненно больше и тоньше – нечто в нас самих, роднящихся и потом забывших об этом. Я вдруг сам почувствовал это, будучи и русским, и белорусом, и украинцем по крови, и, конечно, татарином. Но почему-то в детстве меня били неоднократно как «жида». Но, вероятно, потому, что жрать было нечего, рос худющий, а нос почему-то наливался жизнью – это, заметьте, мое физиологическое открытие! Вспоминаю, как Женя Шифферс рассказал давно уже свою историю из детства. Как-то он пришел к отцу (ему было лет 11) и спросил: «Пап, а мы евреи?» Тот ответил – да. А потом он узнал, что отец – армянин, мать – француженка. И уже спустя время спросил отца: «Зачем же ты меня тогда обманул?» Ответ был таков: «А чтобы ты почувствовал, каково быть в другой шкуре»
. ФОТО 111
Так вот: я никогда не побываю в шкуре Юлия Кима, но в силу своего воображения хоть отчасти смею представить себе или хоть капельку почувствовать себя, как он.
В его стихах-песнях все это растворено, как горькая соль в воде. А в прозе я чувствую кристаллизацию этих чувств.
Начало декабря
Скоро Исаичу стукнет 85, или 30 025 дней, как я подсчитал. Подсчитал сегодня ночью. Много думал о нем. Надо написать статью для «Новой газеты». Главная мысль – он еще не все сказал. И он – в полной силе. Пишет и пишет, «Новый мир» только успевает печатать.
Пора мне, наконец, подарить ему тот портрет, что написал американский мальчик. Впрочем, когда думал о подарке ему, сочинилась вот эта сказка-быль.
ФОТО 0 97
МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА-БЫЛЬ О ПОРТРЕТЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
И О «ВСЕМИРНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ»
В 1992 году в городе Ньюпорте, где мне случилось как вице-президенту общества «Апокалипсис» прочитать лекцию о Солженицыне, американский вице-президент этого общества, невероятно похожий на английского полковника из фильма «Мост через реку Квай», высокий, стройный, статный, истинный джентльмен, пригласил меня к себе. Сидели, говорили. Вдруг он куда-то ушел и принес мне портрет Александра Солженицына.
Портрет любительский. Один американский мальчик в 1977 году, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», потрясенный этим откровением, написал по газетным фотографиям портрет Солженицына. Получил за него какую-то высокую премию на выставке. А мой полковник взял да и купил этот портрет. И вдруг, с чисто русским размахом, подарил его мне.
– Ты с ума сошел!
– Нет, хочу и подарю. Ты заслужил.
– Мой портрет?
– Твой!
– Но ведь и твой же!
– Ты о чем?
– А вот о чем. Бери билет в Вашингтон, и мы с тобой вместе подарим его нашему посольству.
Послом России в США тогда был Владимир Лукин. Сказано – сделано. Мы поехали вместе. Подарили. Была пресса, телевидение. А потом вдруг узнаю, что Лукин возвращается в Москву. Позвонил ему и сказал: «Отдавай портрет. Новый посол засунет его куда-нибудь подальше». Лукин привез портрет в Москву, несколько лет он висел у меня в кабинете. Нередко приходила мысль, а где тот мальчик, что нарисовал его? Ведь прошло столько лет. Достоевский сказал как-то, что только русским присуща – от Пушкина идущая – «всемирная отзывчивость». Сказано гениально, но неточно. Все гении, начиная с Пушкина, мерили себя на народ. Гении вообще склонны мерить всех на свой аршин. Ошибка естественная, простительная, замечательная даже, мечтательная.
Но вот вам портрет, созданный американским мальчиком. Это ли не всемирная отзывчивость? Вовсе не является она особенностью русского народа. А кажется, меньше всего сейчас свойственна именно русскому народу: 14 тысяч своих положить и полтора миллиона афганцев – хороша отзывчивость! Когда я предложил на Съезде народных депутатов СССР почтить память погибших афганцев, меня освистали! А Чечня?!
И сколько ни призывали Александр Исаевич Солженицын, Дмитрий Сергеевич Лихачев – «Покайтесь!», все впустую.
Все впустую, впустую, не по их вине, а по нашей.
«Всемирная отзывчивость» – оказывается, вовсе не наша монополия. Давайте пожелаем здравия тому американскому мальчику, который написал этот портрет.
2004
2 сентября
На открытии выставки фоторабот Светланы Ивановой сказал несколько слов. Ира потом записала. Надо бы сделать статью об этой удивительно талантливой и давно любимой мною женщине.
ФОТО 135
БУДЕМ ЖДАТЬ НОВОГО СЛОВА
У меня, в сущности три с половиной, может быть, четыре мысли.
Первая. Без всякой ложной скромности я обязан сказать здесь о своем действительно остро сознаваемом невежестве в отношении художественной фотографии.
Известно, когда фотография возникла, то вместе с ней возникла и мысль: фотография убьет искусство. Все вы знаете, что есть огромная литература об этом дурацком противопоставлении. Равно как все вы знаете, что на самом-то деле просто возникла новая область искусства, ничего и никого не убивающая, ничего и никого не отменяющая, – фотография художественная. Правда, сначала она была (как бы это сказать?) фотографией натуралистической. Речь идет об искусстве, об утонченности, о смелости глаза фотографа, который, благодаря таланту и интуиции, благодаря глазу своему, научился выбирать, отбирать, угадывать моменты, мгновения, секунды проявления человеческих эмоций, и не только человеческих, но, если угодно, вообще природных. Действительно, некоторое время фотография соперничала и с живописью и с графикой. Сейчас все это противопоставление далеко уже позади. Художественная фотография стала абсолютно полноправным направлением настоящего искусства. Я мало знаю историю этого искусства. Только обрывочно. Но чувствую, догадываюсь, что творения Светланы Ивановой не просто внутри этого нового искусства, но и какое-то развитие его. У нее здесь свое место. Пусть гениально найденный момент личности, момент живой природы будет самым точным и открывающим наши, как сказано в «Гамлете», «духовные очи» на самих себя. На этой выставке, по-моему, происходит нечто новое, которое я бы выразил в таких словах, что слышал неоднократно от людей, повидавших себя в этих фотографиях, – себя и других: «Я еще никогда не знал себя таким. Я еще не знал о себе таком».
Я, я, я… что за дикое слово?
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого?
Добавил бы: разве «я, я, я» знал себя такого, какого, может быть, впервые и увидел на этих фотографиях? Тут не просто зеркало, а зеркало волшебно-художественное, обнажающее духовность или антидуховность человека. Это снято какой-то скрытой духовной камерой. Ювелирная точность, абсолютный слух и, одновременно, мировоззренческий, мироощущаемый масштаб… А если еще попытаться глубже вникнуть – какой перед нами вырисовывается духовный автопортрет самого художника.
Вторая. Фотоработы Светланы, ее искусство – серийно, многосерийно. Это настоящее исследование духовных характеров.
ФОТО 121 – 122
Каких характеров? Прежде всего, близких художнику людей, буквально окружающих его.
Третья. Мерещится мне, что не избежать ей, Светлане Ивановой, и еще одной серии, а именно – серии изображения любимых или не любимых ею художников или мыслителей. Каким образом она будет это делать – откуда мне это знать! Тут могут быть и Гомер, и Данте, и Гёте, и наши – от Пушкина до… поэтов Серебряного века, да и до нашего века, как его назовут?
Вот вам, например, портреты Достоевского, написанные Корсаковой и Неизвестным. И сравните их с фотографиями. Все говорит само за себя.
Я мечтаю увидеть этих творцов ее глазами. И убежден, что мне (и другим) откроется нечто такое, на что мы были слепы или близоруки.
И четвертая. В ее творчестве ощущается Союз духовный с другим талантом и даже гением – с Вячеславом Ивановым. Их Брак, их Союз – союз в прямом, точном смысле этого слова, когда истинная любовь только усиливает врожденный талант.
А в общем я хочу сказать, что «правду говорить (по словам Иешуа из Булгакова) легко и приятно». Но скольких трудов и мук ей, Художнику, это все стоило – мы можем только догадываться.
2005 год
10 января
Письмо в Италию – Витторио Страде
БРАТУ ИТАЛЬЯНСКОМУ – ДАЙ ТЕБЕ БОГ МНОГИЕ ЛЕТА!
Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты –
Ведь это все любви счастливые моменты.
<...>
Давайте жить, во всем друг другу потакая, -
Тем более что жизнь короткая такая.
Булат Окуджава
ФОТО 091
Когда я узнал, что тебе, Витторио, 75 лет, и меня попросили написать для юбилейной книги – я растерялся. Почему? Сказать бы тебе прямо и в глаза, в присутствии жены Клары и друзей, мне было бы куда легче, чем «официальничать». Я это не только не умею, но главное – не хочу. Вот почему я просто хочу представить себе, что все это говорю тебе, Витторио, глядя в глаза.
Почему-то с отрочества, тем более с юношества, я это слишком хорошо помню, всегда чувствовал, что мне не хватает брата. И чем старше становился, тем больше не хватало. Я нашел своих братьев тут, в России. Ты их знаешь: это Алесь Адамович, Юрий Давыдов, конечно, Булат Окуджава, Наум Коржавин, Камил Икрамов… Но чтобы вот так, абсолютно неожиданно, в 1964 году, обрести брата в Италии!..
Тогда я работал в международной редакции журнала «Проблемы мира и социализма» (в Праге). Начал писать статью о Солженицыне, вернее, о повести его «Один день Ивана Денисовича». … Вдруг напал на рецензию на повесть Солженицына какого-то Витторио Страды, который, в сущности, и написал уже почти все то, что и как я хотел сказать. Это была наша первая встреча, о которой ты, конечно, ничего не знал. Тогда же подумал-почувствовал: вот человек, который познает любовью и для которого любовь и есть способ познания. При той, как ты помнишь, свистопляске, бесовской пляске вокруг повести, твой голос был для меня поддержкой, голос, пусть почти одинокий, но стоивший больше, дороже всех остальных, бесовских. И я тогда впервые понял, что нашел брата.
Прошло несколько лет, и ты вдруг с Кларой приехал в Москву (кажется, в 1968 году). Мы встретились как родные. Более того, я очень хорошо, до деталей, помню нашу встречу в гостинице «Метрополь», где я отдал тебе свой доклад, прочитанный 30 января 1968 года на вечере о Платонове в Центральном доме литераторов. И вот тут-то вы и помогли мне, да и не только мне. Вывезли текст моей речи (как вскоре выяснилось, прекрасно записанной чекистами, следившими за писателями), скомкав листочки и засунув их в детские носки. Потом он был напечатан в западной прессе.
Так начинались наши отношения. Господи, с тех пор прошло не меньше сорока лет.
Пора итожить.
Я знаю, может быть, даже не меньше, чем ты, это странное племя западных «русистов». И ничуть не принижая других знатоков, любящих Россию, не могу не признать: такого знатока русской литературы, русской общественной мысли, да и просто человека, понимающего всю нашу историю и современную политическую ситуацию, как ты, право, не знаю.
И дело совершенно не только, а может быть, даже и не столько в числе и качестве работ о русской культуре, написанных тобой. Они всегда отличались и глубиной, и превосходным стилем. Дело, может быть, прежде всего – как бы это сказать? – в установлении личностных связей между нашими культурами. Между конкретными людьми. Я сейчас говорю о том, в чем мне тебя никогда не догнать, да я и не стремлюсь, потому что не моя это стезя. Ты, оставаясь, прежде всего, философом, историком, мыслителем, то бишь яйцеголовым, стал удивительным организатором сближения культур. Стоило бы подсчитать (только кто это сделает?), сколько конференций и на какие темы ты организовал в Риме, Милане, Неаполе, Падуе, Мантуе, Пенне – о Солженицыне, о Сахарове, о Достоевском, Пушкине, Чехове… Скольких людей ты туда привлек. И сколько людей – а их не счесть – тебе благодарны за это…
Позволю себе одно воспоминание. Может быть, самое сильное впечатление из истории наших с тобой отношений – то есть из истории отношений наших культур. В 1997 году в Римини проходила очередная международная встреча, организованная Итальянским христианским обществом. На сей раз она была посвящена Ф.М. Достоевскому, и ты пригласил меня в качестве докладчика.
Приехать из Москвы в небольшой курортный городок Римини и увидеть весь его «облепленный» метровыми портретами Достоевского и узнать, что там происходит Конгресс в его честь – это в католической-то стране… Конгресс, организованный православными общинами Италии… Конгресс, на котором присутствуют тысячи человек, где добровольно работают православные итальянцы от студентов до профессоров. Это было для меня, может быть, главное чудо. Это надо было не просто видеть. Это надо было внутри побывать, не веря в такую возможность, потрястись ее реализацией. Право, ничего подобного в моей жизни я не видел (к сожалению, такого пока нет в России ни в отношении Достоевского, ни в отношении Данте). Представляешь, в какой-нибудь Рязани – Конгресс о Данте, и вся Рязань – в портретах Данте.
Может быть, самое странное, сближающее нас (и отличающее от многих других), – это наш с тобой во многом общий путь познания. Говоря словами Николая Кузанского, «путь от ложной истины к истинному незнанию». Мы с тобой на своей шкуре, «мозговой», прочувствовали, перестрадали истину (открытую нам Ф.М. Достоевским): «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?» Знаю, что ты написал собственную исповедь – признание старого «ревизиониста». И здесь мы оказались с тобой братьями.
У Достоевского есть понятие – «перерождение убеждений». У каждого сколько-нибудь мыслящего человека не может не быть «перерождения убеждений». Только у дураков нет «перерождения убеждений», именно этим они и гордятся. Но само это «перерождение убеждений» или, что мне привычней, перемена убеждений – для нашего поколения – относилась не только к убеждениям политическим, тактическим, даже стратегическим. Нет, речь шла о самых из самых коренных, мировоззренческих переменах убеждений. Для нас это был разрыв с коммунизмом (1) и встреча рода человеческого со своей смертью, вернее, со все нарастающей угрозой самоубийства (2). Обе перемены связаны друг с другом. Обе абсолютно беспримерны по своим масштабам, сложности, трудности и даже скорости.
Ты и я, как никто (кроме, пожалуй, наших жен – Клары и Иры), прекрасно знаем, как встречались мы с тобой на якобы «параллелях», которые вдруг почти всегда сходились в одной точке. Это было и в отношении Пушкина и Достоевского, Солженицына и Сахарова, Герцена и Ленина. Это было и есть какое-то заочное соревнование с одной целью и на одном пути. При этом я нередко так и не достигал «конечной» цели – публикации, потому что главный мой недостаток – безграничность, связанная с глупой надеждой на бесконечную жизнь. Ты же, напротив, всегда умел обуздать себя и завершить мысль в законченную форму. Вот ты и собираешь удивительно богатый урожай – не счесть книг и статей, тобой опубликованных, прежде всего, конечно, по-итальянски, но и по-русски тоже немало.
Хочу под конец сказать тебе еще одну важную вещь: думаю, и ты, и я без наших жен – ты без Клары, я – без Иры – не смогли бы сделать того, что смогли. Ты – по «объему выпущенной продукции» – несопоставимо больше меня. О причинах я уже говорил. Но удалось тебе столь многое свершить еще и потому, что с самых первых твоих шагов по тернистому «пути от ложной истины к истинному незнанию» с тобой рядом мужественно шла Клара, русская женщина, родившаяся в Сибири, учившаяся в Москве и прожившая большую часть своей жизни в твоей родной Италии.
Закончить хочу, повторив: не знаю на Западе другого человека, так знающего (и узнавшего «способом любви») – Россию.
Ты помнишь, конечно, мой шуточный, а на самом деле серьезный тост в Милане на праздновании 90-летия Д. С. Лихачева: «Среди нас присутствует «двойной агент», агент Италии в России и агент России в Италии. Я хочу за этого «двойного агента «выпить, потому что это единственный «двойной агент», который нес добро и культуру в мир. Он был агентом культуры Италии в России и агентом культуры России в Италии. Это – Витторио Страда».
11 марта
Ворвался на 20 минут Вадим Туманов. Объяснил цель «визита»: хочет подарить книгу Юрию Рыжову. Услышал его выступление по «Свободе» и понял, что это умнейший человек России и порядочный. И вот наивная просьба: помоги, Юра, написать ему посвящение и передать книгу.
Он живет своей книгой, как мать ребенком. Книга его не отпускает вот уже год. Все время подвозит нам «снаряды» и «стреляет» по тем, кто дорог ему. Впрочем, слово «стреляет» здесь противуположное по смыслу.
ФОТО 119 и Вадим Туманов 131
22 апреля – день рождения Ленина.
Позвонил со «Свободы» Володя Кара-Мурза и предложил принять участие в его передаче «Грани времени», на этот раз о Ленине.
На предложенные 3 минуты и извинительное замечание: «Вам, конечно, мало», – ответил: «Почему? Мне еще меньше надо» – и высказался за чистоту ленинских рядов:
«Сегодня у верных коммунистов великий праздник – день рождения Ленина.
А я считаю, что они Ленину изменили.
Ленин говорил : «…всякий боженька есть труположество». Более мерзкого, грязного атеистического словца не было, нет и не будет в истории.
А нынешние ленинцы стоят со свечками в церквах, а их вождь Зюганов лобызается с патриархом.
Вы можете представить себе: Ленин со свечкой, да еще лобызает патриарха Тихона? Да вы, верные ленинцы, должны бронзой выбить эти слова на всех церквах, а особенно – на самом Мавзолее.
А вот еще его же слова: «…каждый хороший коммунист в то же время и есть хороший чекист». Вот когда вы впишете в свои парткнижечки эти слова, тогда можно будет поверить, что вы верные ленинцы.
Ленин писал: «…такая интеллигенция как Короленко – это не мозг нации, а говно нации». Вот когда вы впишете в свои уставы эти доподлинные ленинские слова, тогда можно будет вам поверить. У меня все».
26 апреля
Уходя с выставки Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой «Сказка сказок»…Ходил по залам как бы в подводном царстве. Вот эта удивительная «дымка» (туман) и создает эту атмосферу. Ср. Первое впечатление от натуралистических, а на самом деле волшебных фильмов Кусто, как бы подводных, а на самом деле – подсознательных. А в результате в этом тумане так много проясняется, яснее, чем при свете каких угодно прожекторов и выпячиваний.
Юра Норштейн: «Тихий гений»
«Бывают странные сближения…»
Ахматова: «Когда б вы знали из какого сора….»
Норштейн: из чего рождается фильм? – из опилок.
И вот еще:
Бродский. В своей нобелевской речи обращается к правителям мира – читать, любить литературу.
Норштейн: надо заставить всех президентов прочитать «Шинель» Гоголя.
«Ежик в тумане». Тут ведь что главное: и Ежик – сирота. Образ «сироты» в мире. А сиротство и в нашем маленьком земном мире и в большом присуще каждому человеку, сознает он это или не сознает (чаще, конечно, не сознает). Это сиротливая, ко всем доверчивая мордочка навсегда врезается и вырезается в памяти и остается навсегда.
«Ёжик» – микрокосмос маленького человечика, который нуждается в помощи, добром слове, и бесконечно благодарен, когда ее находит.
Для меня «Ёжик» – князь Мышкин. Боюсь так сказать, но так чувствую.
Но тут, если угодно, и образ искусства, потому что искусство без тайны не может быть. Искусство ищет тайну, само таинственно и нас побуждает не к всезнайству, а к поиску тайны. Оно не открывает тайну. Оно ищет и находит эти тайны. Какая-то особая тревожная недоговоренность в искусстве… Без этого его, искусства, не может быть. Об этом еще у Нострадамуса, у Августина Блаженного. Да, Господи, об этом же прямо сказано в Библии.
Общий знаменатель:
Действительно величайшее открытие русской литературы XIX века – открытие «маленького человека». И начинается эта традиция, быть может, от радищевской «дробинки». У Радищева: уничтожение «маленького человечика» дойдет до такой точки, которая взорвется – и не в мужике, а в интеллигенте – взрывом!
Если человеку XXII века, ничего о нас, живших в XIX, XX, XXI веках, не знающему, но, конечно, несравненно больше знающему о природе человеческой, покажут только две картинки – «Ёжика в тумане» и «Шинель», то он мгновенно поймет неизбежность нашей судьбы, такой трагической.
Вот ведь как бывает. Сколько написано о «Шинели» Гоголя. И «все вышли из «Шинели», и…. Наверное, тома. А вот «какой-то мультипликаторишка» с точки зрения якобы «высоколобых» - взял и понял, и не только понял, но и – изобразил нагляднейшее и убедительнейшее такое проникновение, такое понимание, которое до сих пор и не бывало. Как бы взорвал точку, взорвал атом. И открылась такая неисчерпаемая энергия.
Удивителен слух Ю.Н. к иконам, в каждой из которых (а иконы долгое время не подписывались) он видит прежде всего сущность, исповедь человека, ее писавшего. Это была духовная работа, рассказ о себе.
И еще одно: конечно, я был счастлив, когда в перечислении тех художников, которые острее, сильнее, больше на него, Ю.Н., повлияли, нашел, простите, и свое – «Ночь» и «Пьета Радонини» Микеланджело, «Менины» Веласкеса, последние работы Гойи (!) и любимейший портрет Мусоргского.
Юра мне родной. Досада: так поздно с ним встретился!
25 октября
Вчера в Институте Сервантеса представляли Ирину книгу «Я - Гойя». Рад за нее, книга получилась, действительно, интересной и серьезной. Когда она в Испании в 2002-м вдруг рассказала мне идею: Гойя говорит о себе – в письмах, автопортретах, в портретах своих друзей, любимых, даже в портретах своих покровителей, - я даже немного позавидовал. Ведь идея самопознания художника - в его автопортретах через всю жизнь – мне близка. Ведь я давно хочу, да все откладываю сделать альбом – «Автопортреты Гойи». Ну что ж, работа сделана лишь частично.
Надо скорее делать, доделать. Вот уж сколько лет вынашиаю идею: Гойя – Достоевский – Апокалипсис. Кажется, все собрал, столько передумал, надумал, в Испании прожил с этими мыслями не один месяц, в Фуэндетодосе побывал не один раз. А вот поди ж ты – как любит иронизировать надо мной жена – «черным по белому» - ничего! Да нет, написано много. Но свершить задуманное, а тем более завершить, поставить точку – не могу. На что рассчитываю? Опять – на вечность… Ой, просчитаюсь.
30 декабря
Чувства не врут.
Да знаю-знаю, что скажете – все перепутал, чувства врут, сплошь и рядом врут.
В отношении чего? В отношении того, что, когда глядишь – куда? – да хоть на небо, на солнце, все не так, как нам кажется. Что не солнце крутится вокруг нас, а мы вокруг него. И наука доказывает, что все наоборот...
Да я не об этих чувствах говорю. Я говорю о другом, абсолютно о другом – о чувствах между людьми, человеками. Не между... предметами, бильярдными шарами (стукнулись – раскатились, не проникли друг в друга). А между людьми, душами. Души – это тебе не бильярдные шары: проникают сразу. Они сразу проникают и – уж проникнувши – либо уж действительно отталкиваются, либо жаждут друг друга...
А беда настоящая, когда вы врезаетесь в него, вы – действительно «бильярдный шар», с тем или иным «измом», а он-то? А он-то – нет. И это уже не познание. Это уже убийство.
...Когда я бываю счастлив?
Общая формула: когда – ненатужно, а радостно – отдаю – и вижу хоть отблеск счастья в других глазах...
Когда я бываю лжесчастлив? Когда нравится награда как самоцель... Еще когда? Когда победил. То есть? То есть унизил кого-то, пусть под аплодисменты, но все равно – оскорбил, убил...
Тут никого – ни себя, ни другого – не обманешь, даже если ты убьешь.
Все, что я делаю, – это мучительнейшее воспоминание какого-то сна, который я видел и никак не могу вспомнить, рассказать, передать. Человек – это воспоминание о самом себе, свершившемся и несвершившемся.
Многое – накоплено, и хочется – отдать.
Скрытая формула творчества: все – из ничего.
«Взрыв точки» породил всю вселенную.
2 До 16 лет я был Юрием Морозовым, а получая паспорт, взял фамилию отца, меня воспитавшего, - Карякин.
3* См. «Советскую культуру» от 1 окт. 1988 г. (7-я полоса – «Процесс»). Надо поблагодарить И. Т. Шеховцева за то, что он невольно оказался инициатором первого в истории нашей страны официального судебного процесса «по делу Сталина» (фактически первого процесса против сталинщины).
4 Когда лежал в Склифосовского с инфарктом, попросил Иру отвезти Альфреду Гарриевичу только что вышедшую мою книгу «Достоевский и канун XXI века». В ответ получил две его пластинки с очень дорогим для меня посвящением:
«Дорогой Юрий Федорович, дай Бог Вам здоровья, чтобы так же появлялись книги и статьи на радость и пользу Вашим читателям (и мне тоже). Альфред Шнитке». «Дорогой Юрий Федорович, Вы один из тех людей, которые в этих изменениях остались собою (а множество других лишь примкнули к ситуации, внешне предельно изменившись)… Альфред Шнитке». Как каждый из нас, и он – посвящая – преувеличивает десятикратно значение того, кому посвящает. Но правда и то, что он человек, который физически-музыкально не может быть неискренним. Поэтому для меня это награда и аванс.